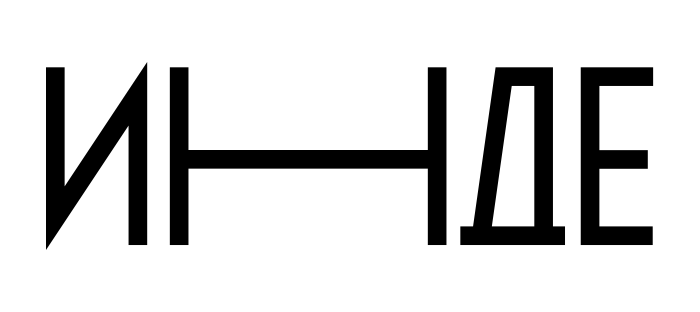Сегодня День театра! «Инде» публикует семь современных пьес, написанных авторами из Татарстана
В конце 2010-х и начале 2020-х Россия пережила всплеск интереса к драматургии — новых конкурсов пьес и авторов было не счесть, и это по-своему отразилось в Казани. Татарстанской фабрикой театральных текстов стал созданный Настей Радвогиной, Региной Саттаровой и Ниязом Игламовым «Центр.Первый». А еще творческая лаборатория «Угол», где эти тексты впервые читали на зрителя, — обе институции одновременно появились в 2015 году.
Десять лет спустя в День театра мы вспоминаем, как это было, — перечитывая любимые пьесы.
18+
«-30» (2016), Регина Саттарова, Павел Поляков, Павел Ивлев
Не самый частый случай в Казани 2010-х: пьеса была написана для постановки на конкретной площадке, а спектакль по ней стал, по сути, визитной карточкой этого пространства — совсем недавно (на тот момент) открывшегося «Угла». Заодно вокруг «-30» стихийно собрался «Пакет-театр», ставивший потом променад «Время роста деревьев» на территории «Военный городок 32» в Казани, «Дети и эти» по Григорию Остеру, который показывают в MOÑ до сих пор, сюрреалистичное «Свияжское время», оставшееся расплывчатым воспоминанием первых зрителей только появившейся «Свияжск Артели». И неисчислимое количество читок, эскизов и спектаклей, на которых и выросла во многом условная казанская драматургическая волна конца 2010-х.
Павлик. Я молчу. Я молчу, когда еду в такси. Я молчу, когда не знаю, что сказать. Я молчу, когда знаю, что сказать, но знаю, что этого не нужно говорить. Я молчу, когда задумываюсь. Я молчу, когда на меня кричат. Я молчу.
Я говорю. Я говорю слова. Слово! Я говорю звуки. Мммммм… Я говорю, когда меня спрашивают, куда идти. Я говорю, когда у меня спрашивают мое имя. Я говорю, когда мне звонит мама. Я говорю, когда знаю, что не стоит говорить. Я говорю. Я спрашиваю. Отвечаю.

Регина Саттарова
режиссер, драматург
В 2015-м все началось с того, что мне банально исполнялось 30 лет. Тогда казалось, что это важный рубеж, за которым меня ждет совершенно непонятная и в чем-то даже пугающая жизнь и реальность. Захотелось сделать спектакль, в котором получилось бы осознать себя как поколение. Тогда мы еще не использовали слово «миллениал» — думаю, его и не существовало. По крайней мере, оно было не так распространено.
Каждая из глав пьесы — попытка осознать время и себя внутри него. Сегодня, с одной стороны, у меня к ней ностальгические чувства, а с другой, хотя за десять лет многое поменялось, этот текст не кажется мне рудиментом. «-30» очень важный еще и потому, что для всех, кто работал над ним, спектакль стал проектом, сформировавшим нас как команду. Благодаря Насте Радвогиной мы начали заниматься «Центром.Первым»: пошли пьесы, читки, эскизы. Но на самом деле все началось с «тридцатника».
Когда мы работали над пьесой, очень много разговаривали всей командой: с Булатом [Минкиным], Резедой [Хадиуллиной], Дашей [Андреевой], Пашей [Поляковым], разумеется. Сцены, которые в итоге вылились в постановку, возникали здесь и сейчас. Как говорил потом Булат, в этой работе был момент какого-то откровения. И даже терапевтический эффект. Мы были максимально искренни — в финале, например, ребята говорили действительно очень личные вещи.
С этого материала начался наш творческий тандем с Пашей Поляковым, который продлился до последнего (20 марта 2020 года драматурга не стало. — Прим. «Инде»). У него было, конечно, потрясающее чувство юмора, которым пронизан и этот, и все его тексты.
Теперь «-30» — слепок эпохи, полароидная фотография. Но многие вещи в нем созвучны тому, что происходит сегодня. Я думаю, сейчас пьеса прозвучала бы по-другому — даже интересно было бы посмотреть как.
«Птица-обманщица» (2016), Екатерина Егорова
Героиня пьесы — семилетняя Дуня, умная и наивная одновременно, оказывается одна в огромном лесу, добром и жестоком. История о потерянном ребенке в опасном мире с призрачными обитателями рассказана в сказовой прозаической форме. И все там — не то, чем кажется на первый взгляд: игра в прятки оборачивается реальной трагедией.
Дуня. Боты мои застряли в запутанных корнях. Корни похожи были на косичку! Я тогда забыла про птицу и подумала: крона, то есть голова, у дерева наверху, а косички ногам заплетает! Странно! Я перевернулась и стала на кроны смотреть — их было много, этих крон! Солнца здесь оказалось очень мало — похоже, что здесь ночь, а на поляне — там день… А знаешь ли ты, лес, что там день? А у тебя только чуть-чуть солнца.
«Пора валить» (2018), Денис Рохин
Молодые Иван, Ирина, Дима и Толик из небольшого поселка работают и не работают, играют музыку, планируют переезд и живут свою лучшую жизнь. Легкая и бодрая пьеса о взрослении в атмосфере конца 2010-х годов.
Бабай. Вы музыканты, что ли?
Иван. Ага.
Бабай. Рокешник гоняете? Рок-н-ролл, да? Рок-н-ролл?
Иван. Почти.
Бабай. А что?
Иван. Ну что-то на грани панк-рока.
Бабай. Это Sex Pistols всякие, да?
Иван. Ну тип того.
Бабай. Ууу, помню таких. Агрессивные пипл. Любить надо, ребятки. Любовь, и только любовь. Пис, лав, рок-н-ролл. Меня Бабай зовут. А вас?

Денис Рохин
драматург
На написание меня сподвигло окружение. Осенью 2017-го я случайно попал в театральную студию «Все свободны» по приглашению однокурсницы. До этого я не увлекался театром и ничего о нем не знал. А летом 2018-го центр драматургии и режиссуры «Центр.Первый» объявил о наборе в лабораторию PRO/log, и я решил попробовать. Отправил заявку с коротким отрывком и в том же году учился у драматурга Вячеслава Дурненкова.
С 14 лет я мечтал стать музыкантом, представлял себя на сцене, в турах по стране. Фантазии о своей рок-группе воплотились в виде пьесы о несостоявшемся коллективе, пытающемся вырваться из маленького поселка в большой город и построить музыкальную карьеру. Сегодня пьеса возвращает в среду, окружавшую меня в 2017–2018 годах. В ней упоминаются актуальные для того времени музыкальные коллективы, блогеры, поэты и атмосфера российского артхауса — все, что вдохновляло тогда. Сейчас этот текст выглядит как попытка запечатлеть то время, поймать его дух.
Пока я не пишу новых пьес, а занимаюсь музыкой. Пою в любительском церковном хоре, хожу к преподавателю по вокалу, осваиваю музыкальный софт и пишу стихи. Неоднократно появлялись мысли и идеи для театральных текстов, но довести дело до конца не получилось. Возможно, жизнь когда-нибудь вновь приведет меня к театру.
«Мне тяжело об этом говорить…» (2019), Эндже Гиззатова
АЛЖИР (Акмолинский лагерь жен изменников Родины) — крупнейший советский лагерь для женщин и детей, репрессированных как ЧСИРы, «члены семей изменников Родины». В основном это были родственницы известных государственных деятелей.
В пьесе «Мне тяжело об этом говорить…» Эндже Гиззатова работает с открытыми архивами АЛЖИРа и ГУЛАГа и взглядом на репрессии своих сверстников. Сцены допросов и диалогов узниц, исторические сводки и письма очевидцев монтируются с комментариями современников автора. Так прошлое и настоящее сплетаются в диалог о жестокости и милосердии, исторической памяти и бесценности человеческой жизни.
Я не хочу про это говорить. Нет, серьезно, не хочу. Ну че «почему»? Неприятна мне эта тема, и все… Не хочу. Ну было и было, ладно, ок. И что? Мне вот лично сегодня вот че с этого?

Эндже Гиззатова
драматург
С этим текстом я работала на лаборатории центра драматургии и режиссуры «Центр.Первый». Мой куратор предложил исследовать тему татарок, сосланных в АЛЖИР, потому что у меня уже был опыт работы с документальными материалами. Но я ничего не знала об этой теме и в исследовании двигалась интуитивно. Естественно, в закрытые архивы меня не пустили, поэтому я смотрела интервью с людьми, которые прошли через ГУЛАГ, изучала опубликованные материалы и брала интервью у своих сверстников об их отношении к АЛЖИРу. Историческая направленность стерлась, обратившись в историю про личный выбор между жестокостью и милосердием.
В свое время мне казалось, что пьеса не дописана. Однако за время читок я поняла, что текст не обязательно должен быть выверенным и законченным. Я вижу, что он живет своей жизнью до сих пор. И сейчас он определенно воспринимается несколько иначе.
«5 mm/h» (2019), Дина Сафина
Пьеса Дины Сафиной — коллаж из диалогов двух людей (Он и Она) на территории корпуса химиотерапии. Рассуждения о том, что вокруг. Незначительные подробности. Короткие фразы. Молчание. Изредка прорывающиеся крики птиц. Фиксация состояний и ощущений, которые разливаются умиротворяющим спокойствием, принятием травмы и идущей вперед жизни.
Он. Алло. Алло. Алло. Алл-ло. Ал-ло-о-о-о-о.
Молчат.
Она. А тут связь нормальная?
Он. Местами ямы.
Молчат.

Дина Сафина
драматург
«5 mm/h» — один из моих первых текстов. Это было время, когда я еще только прощупывала драматургию, больше ее изучала и прямо следовала завету старших: «Пиши о чем знаешь, про что у тебя болит». Это со временем понимаешь, что имеется в виду знание темы изнутри, изучение тонкостей. Сейчас я бы не стала писать настолько откровенный, личный текст. Чем дольше работаешь в театре, тем больше закрываешься.
Никогда не скрывала, что это моя рефлексия о болезни папы. Текст писался в мае-июне 2019 года. Папы не стало в декабре 2019-го. Так что первый год я вообще не хотела ни слышать про эту пьесу, ни читать про нее, ни разговаривать. Она писалась по наитию, в доверии к своим собственным ощущениям, без схемы и четкой структуры. Плюс, как и любому молодому драматургу в то время, хотелось повыпендриваться. В пьесе использован метод нарезок. Получилась очень текстоцентричная история, поэтому с ней сложно работать режиссерам. Люблю такое — когда во главе стоит текст. У меня не было в момент написания четкого видения, это был сиюминутный порыв.
Я давно отпустила этот текст и события, с которыми он связан.
«запись прерывается» (2020), Элина Петрова
Перформативный текст, в котором каждая строчка конструирует процесс идентификации автора. Элина Петрова, будучи этнической татаркой, изучает свои корни и природу через окружающие обстоятельства родных Челнов и собственного Я. В этом, фактически дневниковом тексте есть рассказ сотрудницы краеведческого музея, описание городской карты, конспекты деколониальной мысли, (не)случайные голоса и собственные размышления.
Единственный текст в подборке не из Казани.
Моя бабушка, я называла ее дәy әни — старшая мама, пекла татарские национальные блюда
Губадию
Чак-чак
Кыстыбый
Кош теле
Өчпочмаки ([ө] — этот звук близок к частому в английском языке звуку [ә:] в словах bird [bә:d], work [wә:k])

Элина Петрова
драматург
Эту пьесу я писала во время пандемии. Все стало закрываться, я взяла кота, и мы уехали из Петербурга к родителям в Набережные Челны. С тех пор как я отправилась учиться в Москву после школы, я приезжала к родителям всего пару раз в год, а тут жила довольно долгое время. И это обстоятельство натолкнуло меня на мысли о семье и национальной идентичности. Я этническая татарка, у меня крепкие связи с татарскими родственниками, я знала язык, когда жила в Татарстане, но со временем все это стало растворяться.
В это же время у меня был кризис документалиста. Я задавалась вопросом: а что, если я колонизатор, который забирает истории людей и порой заходит в очень чувствительные зоны? И я решила задать себе те же самые вопросы, какие обычно задаю своим героям, и попробовать написать о болезненном, сложном для меня. Сейчас эта пьеса мне кажется неровной, ее можно было бы сделать глубже, больше раскрыть историю семьи. Но тогда только начинался мой путь в драматургии, и этот текст — срез моей реальности 2020 года.
Кроме того, работа над пьесой открыла для меня автоэтнографию. Я занимаюсь ею по сей день и помогаю другим людям смотреть на себя через эту оптику. То был первый шаг в глубоком исследовании собственной идентификации, и этот путь продолжается до сих пор.
«Випунен» (2021), Андрей Жиганов, Kenneth-9
Пьеса с музыкальным сопровождением, написанная и поставленная как опера в наушниках в Карелии.
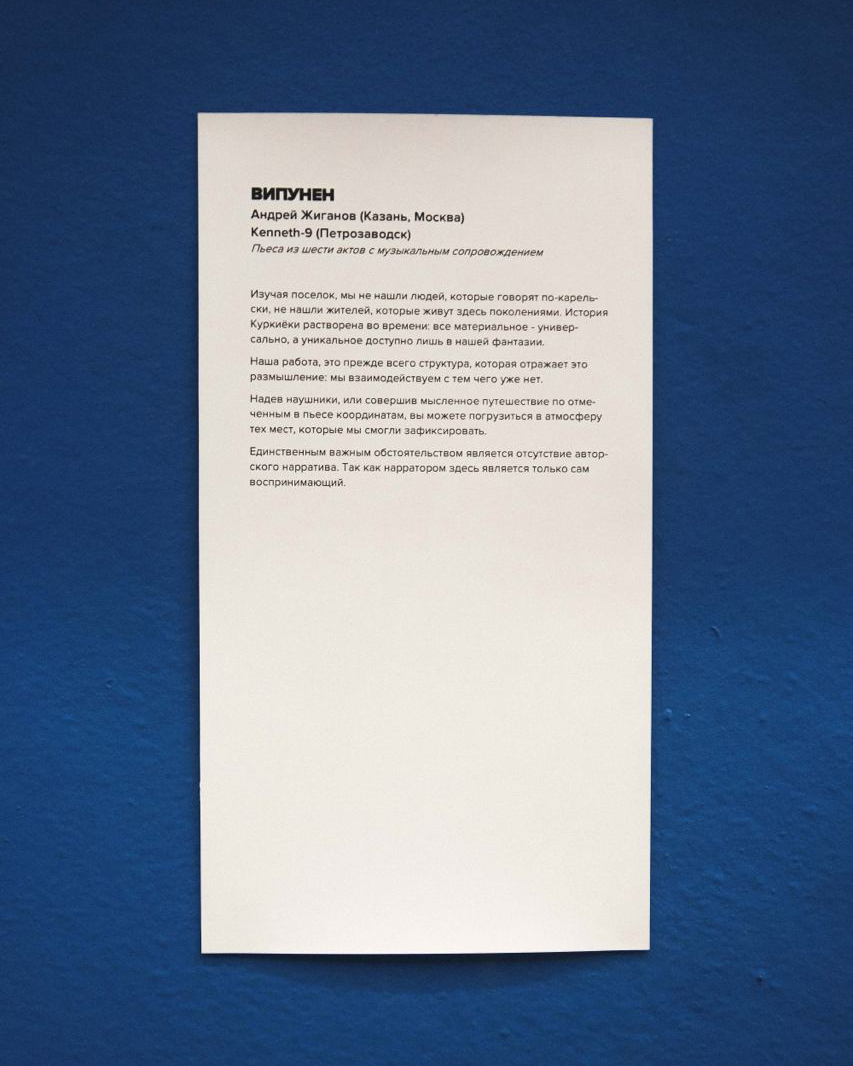
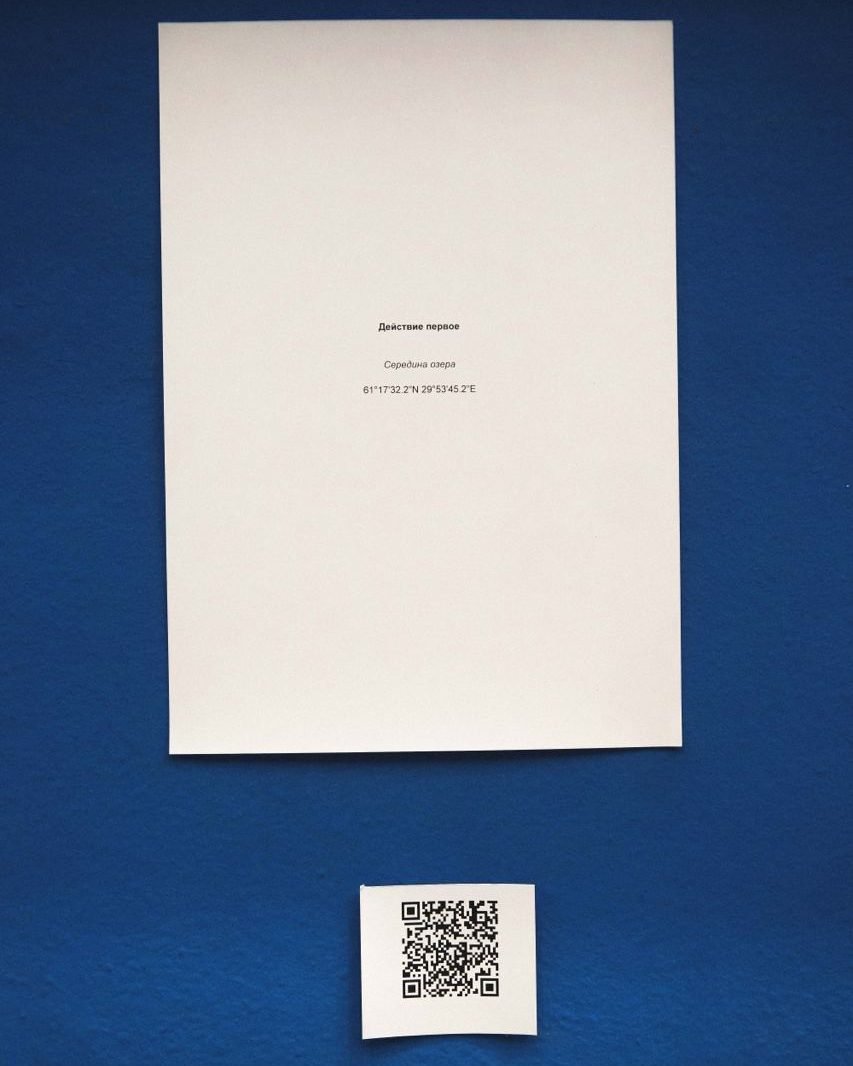
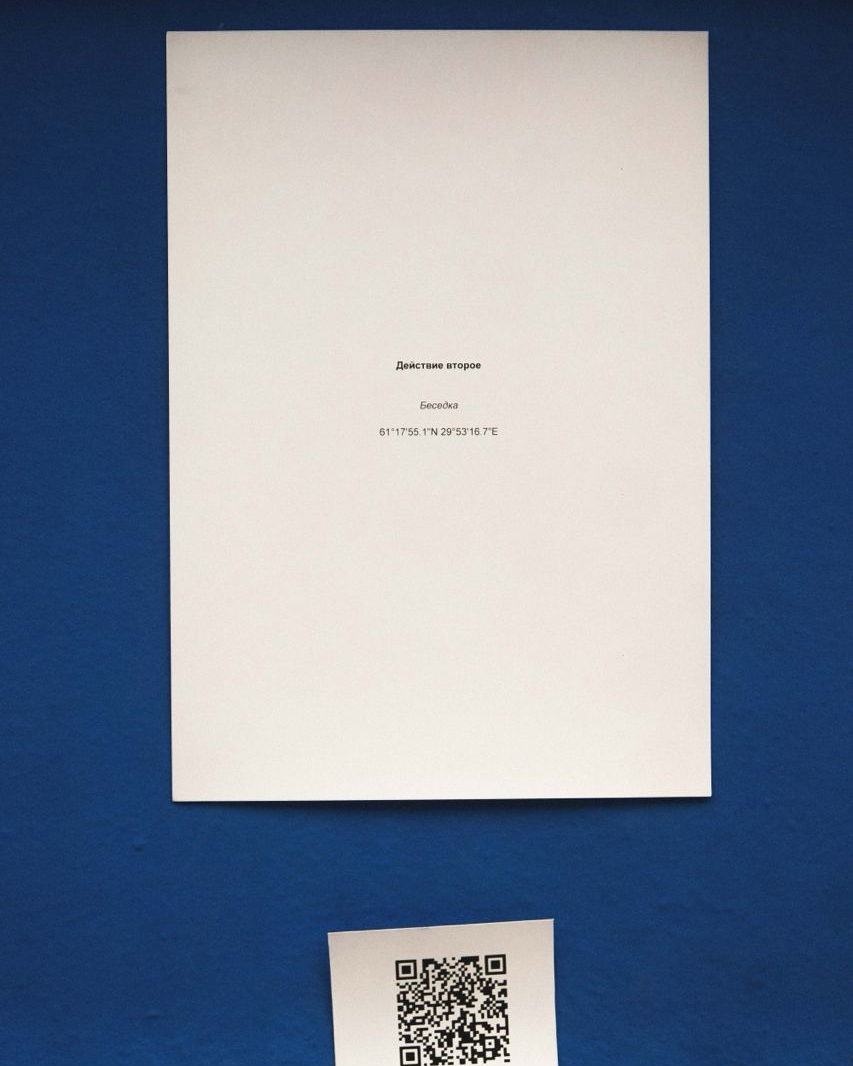
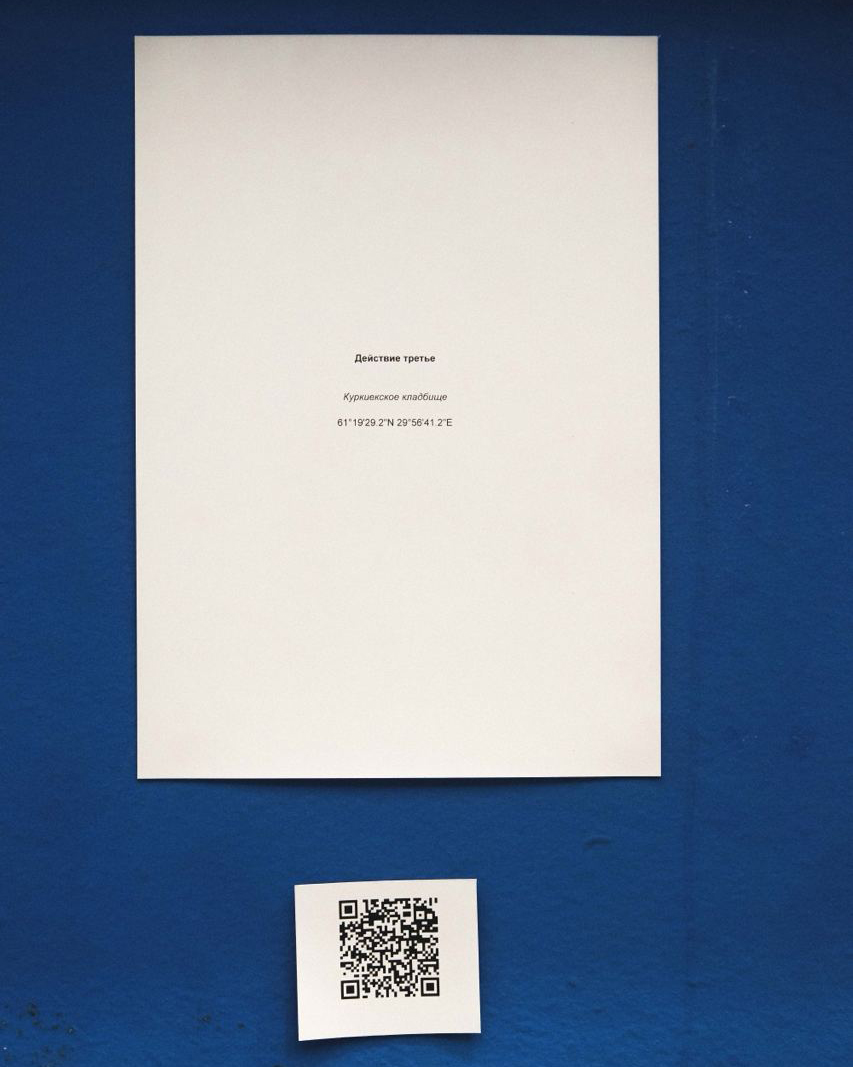
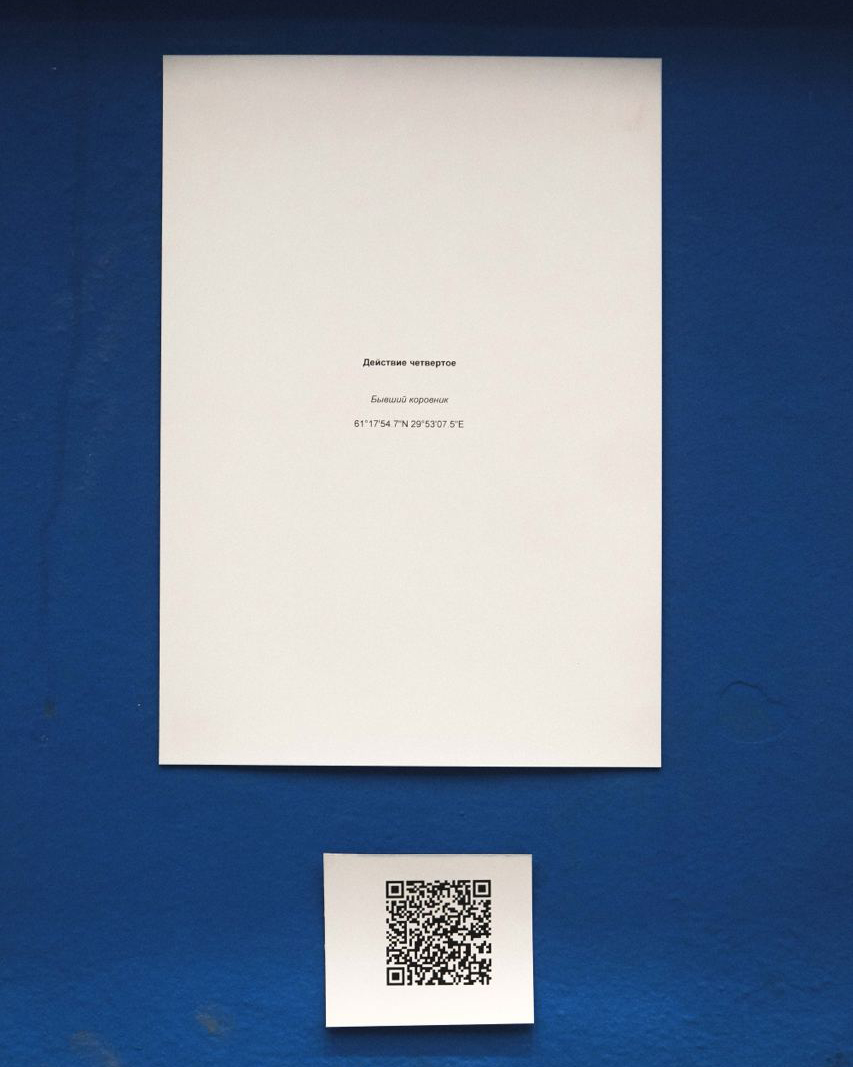
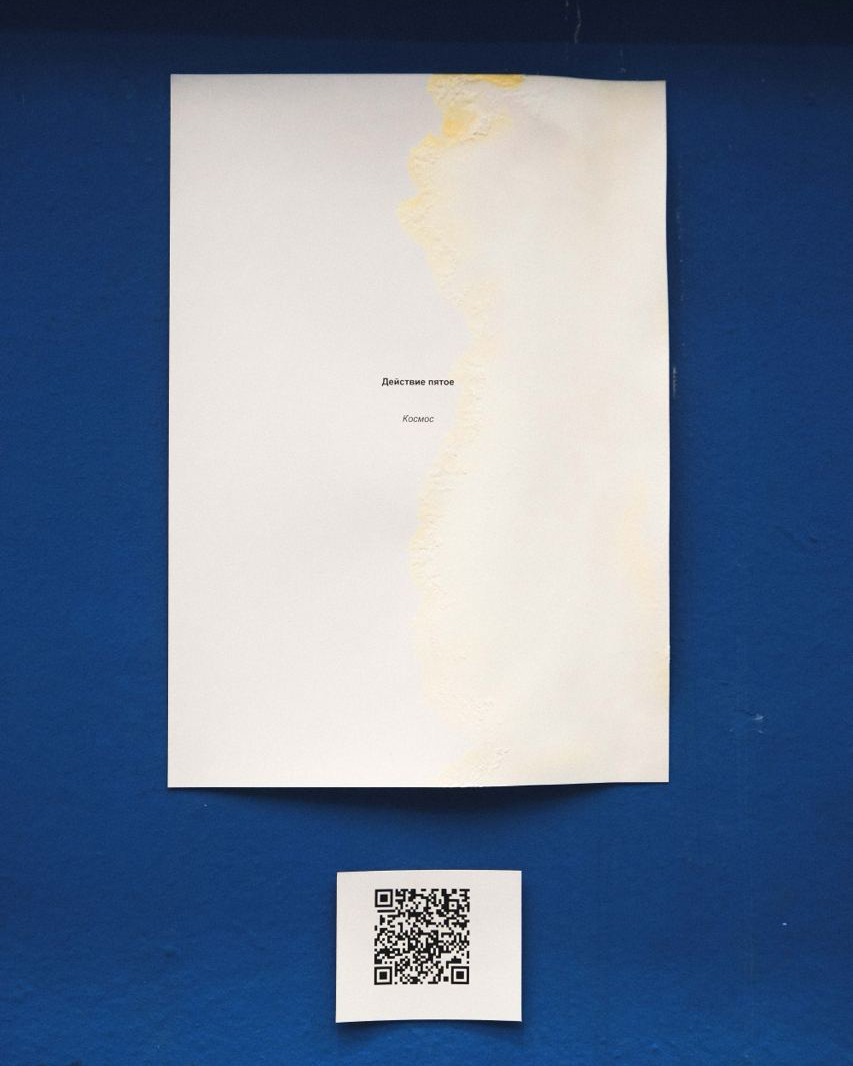
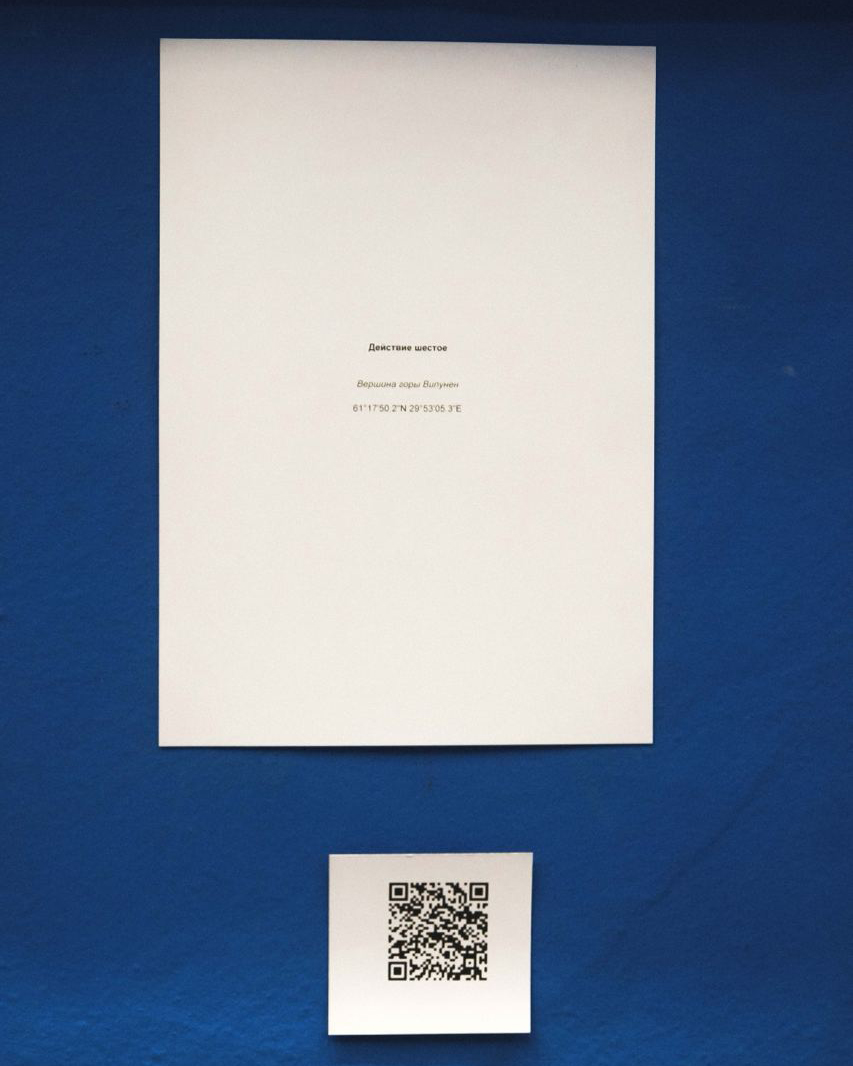
В Петрозаводске «Випунен» был поставлен как опера в наушниках в нескольких залах

Андрей Жиганов
драматург
Сначала искать пьесы мне нужно было для поступления на режиссерский. Я много прочитал, но не нашел той, с которой хотелось бы начать работать.
Большинство пьес — в первую очередь взгляд автора на мир, его отражение, пропущенное через призму художественного восприятия. Но меня интересовал не чей-то взгляд, а мир сам по себе и текст, который в нем уже есть, — объективный, самореферентный, недоступный и больший, чем мы сами. Мне хотелось найти такой текст, который можно было бы назвать невозможным, с которым нельзя было бы работать известными методами.
Я стал искать его, а затем подбирать к найденному форму, которая бы позволяла ему оставаться собой и проявлять свой голос. Так получились пьесы.
Думаю, если говорить про написанные тексты в целом, это был эксперимент. Мне кажется, что художественный эксперимент сам по себе — всегда практика утопии, и тогда, несколько лет назад, людям это было нужно. Сегодня ситуация изменилась. Я это связываю с прорывом симулякра, из-за чего люди стали более тревожными, а утопия перестала быть перспективой. Но мысль о том, что скоро наступит следующий период, внутри которого проявятся новые формы искусства, вдохновляет.
Последние несколько лет я работал с «Любимовкой», оценивал пьесы сначала во фриндж-программе, а сейчас в основной. Это вызвало интерес к теории театра в целом.
Параллельно выпускаю спектакли в разных городах России. Последние были в Москве и на фестивалях в Нижнем Новгороде и Суздале. Создаю тексты вместе с актерами из их личных историй. Все чаще прихожу к мысли о том, что рассказ одного человека — история всего человечества.
«Пинтр! Хамбра! Тикитатамбра!» (2021, редактировалась в 2024-м), Булат Минкин
Комедийное (на деле — почти абсурдистское) погружение в мир медиумов, экстрасенсов и магов. Интересы которых, кажется, скоро могут запретить.
Нафиса. Так мне Святослав уже чистил мою карму.
Артур. А, да? Ммм... Да, но у кармы два слоя, первую часть вы прошли с ним. А вторая часть будет со мной. Не волнуйтесь, мы очистим все, и все у вас будет хорошо. Все, до свидания. Нафиса, берегите себя. Вечером позвоню. И ни в коем случае никому не говорите о нашем разговоре, а то может все разрушиться.

Булат Минкин
драматург
Я занялся драматургией в 2015-м, потому что мне было интересно кино. Хотел научиться писать сценарии, но постепенно перешел в театральные проекты. В середине 2010-х начал участвовать в лабораториях «Центра.Первого», где у нас были театральные тьюторы. Я никогда не думал, что буду драматургом, просто так совпало.
Сейчас работаю и как актер, и как драматург, и как сценарист. Меня до сих пор спрашивают, что из этого интереснее, а я не могу определиться. Есть свои плюсы и минусы. Хотя теперь и там, и там приходится ограничивать себя в плане свободы [высказывания]. Конечно, чем больше пишешь, тем больше опыта появляется. Пьесы складываются быстрее, интереснее уходить от классической структуры. Конкретно сейчас я люблю ритмизированные тексты — даже если они написаны в прозе. Главное, чтобы ритм выходил на первый план.
Как-то я посмотрел документалку о «магах», которые разводят людей по телефону: якобы исцеляют от «порчи» и зарабатывают хорошие деньги на этом. Мне было интересно просто поговорить на эту тему — так и появилась «Пинтр! Хамбра! Тикитатамбра!». Чисто драматургически это постепенное погружение в ад. Человек, как Макбет, постепенно теряет все людское и ради денег — пусть и банально звучит — остается таким пустым, что ему становятся [безразличны] чужие жизни.
Кажется, текст актуален и сегодня. Мошенников стало еще больше, они переходят в новое качество. Просто его пока не ставят. Не знаю почему. Может, просто не пришло время — драматургия в нем вроде нормально выстроена. Либо я просто написал плохую пьесу, тоже возможно. Но ее читали в Питере, даже хотели ставить в театре. Что-то не получилось.