

Художник Ильгизар Хасанов: «Мы часто совершаем логическую ошибку: мол, мы в России самые умные, а на Западе извращенцы какие-то»
В середине марта в музее «Гараж» открылось Триеннале российского современного искусства. Инсталляции и живопись казанского художника Ильгизара Хасанова, в последние годы работающего с предметным наследием советской эпохи, были представлены в разделе «Мастер-фигуры» вместе с работами Дмитрия Булатова, Анатолия Осмоловского, Андрея Монастырского и других мэтров. Каталог триеннале сообщает: «Художников этого раздела можно назвать носителями „авторитетного художественного языка“, чье влияние распространяется далеко за пределы их физического присутствия и места жительства». «Инде» поговорил с Хасановым о советском быте, вербовке в КГБ, расцвете искусства и бандитизма в Казани 1990-х, значении мастерской и Франце Кафке.
Как вы отвечаете на вопрос «почему советские вещи?», чем вы подпитываетесь, работая с пластом советской материальной культуры?
То, что я беру советское, — не ностальгия, не тоска по проходящей жизни: мол, мне уже 58 и я приближаюсь к классическому пенсионному возрасту, к совершенному состоянию. Мне не надо ходить к стоматологу, зубы сами выпадают. Это я считаю совершенством. С советским все сложнее. Я, конечно, понимаю, что жизнь пройдена и вот оно — мое, наше, коллективное прошлое. Интересно другое: почему мы до сих пор не хотим стать европейской цивилизацией? Откуда берется это соотношение себя с Азией? Откуда страсть к руководителям, которые решают все и за всех?
Мы склонны думать, что человек всегда живет высоким сознанием, — сейчас любят говорить о духовности, о русском космизме. Но когда начинаешь смотреть через материальную культуру, взять даже вашу выставку о 1990-х, видишь ущербность в предметах — и эта ущербность влияет на сознание. Поэтому я решил взять в руки советское еще раз. Это делали Кабаков, Монастырский, Пригов. Но Пригов покоился на советском абсурде, находил внутри него свои категории и свое счастье. Что такое вообще абсурд? Это попирание здравого смысла. Наши нынешние руководители… Это же все парни из моей жизни, мои ровесники, может, чуть старше. Это для вас какая-то экзотика — взрослые дядьки красиво химичат. Для меня это все обыденность. Я поражаюсь тому, как мы до сих пор живем внутри этих манипуляций. Нет, это не опасно, так можно прожить еще 100 лет. Но мне жаль развитых людей, способных что-то выдавать, — потому что в наших условиях это делать тяжело. Больше нет советских запретов, да, но сложности у тебя будут такого уровня, что ты можешь их просто не преодолеть. Если ты преодолеваешь, значит, ты энергичный парень. Может, это время такое, что надо все время корячиться. Но ведь это же не надо частным лицам. Вот взять «Смену» — это не надо мне, Роберту (Хасанову, директору ЦСК. — Прим. «Инде»), Кириллу (Маевскому, арт-директору «Смены». — Прим. «Инде»), это надо всем.
Вы относитесь к советскому быту иронично, как Кабаков, или испытываете отчуждение?
С творчеством Кабакова я познакомился достаточно поздно. В Казани мы всегда слышали, что в Москве что-то происходит, но информации было мало — все было построено на личном контакте, на транспортировке знаний. Не было каталогов художников, ничего не было. Ты вынужден был слушать какие-то мифы. Они могли из мелкого раздуться до чего-то большого. А ты как художник мог еще и добавить. Я этим и занимался: создавал что-то, совершенно не понимая первоисточника, но интуитивно чувствовал, что оно вот так и было.
И московские концептуалисты были довольно закрытой группой. Нет, конечно, они были открыты для Запада, но с другими городами России они не особо контактировали. Западу они открывались не для того, чтобы родину продать, а чтобы понять актуальные области современного искусства, поэтому и были самыми передовыми. Что до советского, то у Кабакова как у художника жизни не могло быть другой темы. Концептуализм — это всегда про определенную часть жизни, рассматриваемую с помощью особой оптики. У Кабакова это ирония. Сложно говорить об абсурде окружающей действительности без иронии. Или надо преподносить этот абсурд как проявление провидения, но тогда сам превратишься в непонятно кого. Художник понимает, что колоссальные издержки советского быта влияют на качество жизни и на сознание людей. Я Кабакова не знал. Казань была провинцией. Такой расклад подразумевает наличие метрополии, и, значит, туда из провинции должно уезжать все самое лучшее — так уж устроена империя. В наше время говорить «провинция» уже неполиткорректно, поэтому используют слово «регион». С изменением разговора меняется и сама философия России. И я очень рад этим переменам.

«Странник». 1990 год
Как вы в 1980-е воспринимали этот абсурд окружающей действительности? Или понимание абсурдности происходящего пришло к вам уже позже?
Это я только сейчас все так ловко излагаю, а тогда я был нормальным мальчиком, который продирался сквозь дебри и даже не замечал их. Впервые я с этим столкнулся 30 лет назад, когда написал уже достаточное количество картин. Я изображал предметный мир и часто в качестве объектов брал бутылки. Не потому, что пил, а просто потому, что для натюрморта это совершенно естественно, это пошло от французов: бутылка — это идеальная мертвая форма. Брал я не просто советские бутылки, а более изящные — например от зарубежного коньяка.
Помню, в 1983 году мы хотели сделать выставку, и тут один партийный чувак, того же возраста, что и я, вдруг засомневался. Я вижу натюрморты, а он видит пустые бутылки от алкоголя. Он бился за содержание: мол, это нельзя показывать людям, это агитация. А я говорю: нет, это просто форма, это искусство. Выставку запретили, на всякий случай. И тогда я вдруг понял, куда попал. Абсурд — это отдельное течение в истории человеческой мысли: в искусстве это может быть забавно, но в жизни это попросту страшно. Мне кажется, я чувствителен к такого рода вещам — неслучайно меня потом в «Круг Франца Кафки» записали в Праге.
Франца Кафки?
Да. В 2000 году Фонд Терешковой позвал меня участвовать в групповой выставке в Праге, в Русском доме. На выставку пришел консилиум Общества Кафки — историки, лингвисты, искусствоведы. Посмотрели все и вручили мне диплом: мол, вы беретесь за те же темы, что и Кафка. Я удивился тогда сильно. Я, конечно, знал творчество Кафки, Роберт, мой сын, его иллюстрировал. В этом Обществе Кафки, куда меня включили, состояли многие — Феллини, например. Я их спросил даже: а Феллини знал, что он состоит в вашем обществе? Сказали, что знал. Я обрадовался, что премия не денежная, потому что я этого не люблю. У меня ни одной татарской премии нет. Потому что за них надо биться, суетиться. Такие порой сражения бывают за звание, за премию. К творчеству это отношения не имеет.
У вас есть чувство, что мы и сейчас живем в странное время?
Мы живем не в странное время, а в странном состоянии. Время может быть любым. В советское надо было лицемерить, чего я не любил, поэтому отсоединился от государства полностью, перешел в разряд дворников и сторожей, к ним власть была лояльнее. И я удивляюсь, когда люди приходят на триеннале, видят мою инсталляцию и говорят: мол, раз все красное — значит, ностальгия по советскому. Но они не понимают, почему все предметы, начиная от пинеток и до томика Маяковского, — красные. Это же чистое НЛП. Человека с самого раннего возраста, с первых игрушек и книжек, вели к абсолюту — к флагу. Был бы у нас зеленый флаг — в окружающем мире было бы больше зеленого.
Правая сторона инсталляции — это история мальчика, там машинки, игрушки; левая — девочки, где гребешок, фен; они соединяются в конце красным телефонным аппаратом — трубку я на сторону девушки отправил, а сам номер мальчику, потому что активность со стороны мужчины исходит обычно. Слева от этого находится инсталляция «Женское» с клатчами, справа — «Мужское» с пальто. Это я взял из пособий 1960-х годов, излагавших, как правильно складывать пальто. То есть люди были настолько примитивны, что им нужно было такие вещи дидактично объяснять.
Конечно, это достаточно банально, современное искусство занимается гораздо более сложными вещами. Почему я это делаю? Потому что это упущено. Да, можно форсировать развитие событий, уходить в science art, в какие-то высокие материи, но мы уходим туда, лицемеря, полагая, что тем самым заскочим в вагон западного мира, отправившегося вперед. Нельзя этого делать, не разобравшись со своим прошлым. Есть «быть», а есть «казаться» — и я сторонник того, чтобы побыть собой. Иначе мы будем странно смотреться среди европейцев со своим мешком абсурда.
Культура нам дана для того, чтобы мы самоопределялись, чтобы могли плодотворно заниматься рефлексией. Меня культура просто спасла в этой жизни — я родился на Федосеевской, среди всего этого разбойного люда, где у людей все было просто: надо стать царем горы и всех с нее скинуть. И главное — потреблять больше, чем другие. Вот и все. Это ужасная система, и меня каждый раз передергивает, когда я вижу, что она еще жива. Поэтому триеннале — это бальзам на душу: я увидел столько приличных людей, которые пришли не потому, что их на автобусах привезли, как у нас принято, а потому, что им интересно, что представляет собой искусство в России. Как говорил Ницше: «Что такое быть художником? Это все время делать выбор». Любой может быть художником. Не обязательно даже рисовать, это может быть движение на уровне мысли — ты все время выбираешь способ жизни, способ говорения, способ думать о вещах.
Как вы отнеслись к приглашению на триеннале?
Честно говоря, давно ждал. Я в Москву ездил в 1990-е, выставлялся, пробовал налаживать контакты, но, как говорится, не наездишься. Я и в сквотах был, в Трехпрудном, например.
Вас туда тянуло?
Конечно. Но у меня семья, дети, я не мог так просто все бросить. Хотя я понимал, что там мое место, что туда должны от мира уходить художники. Это было время радикальных решений, и нужно было просто прыгать в эту прорубь и не думать. В итоге я физически прыгнул в прорубь: чтобы меня алкоголь не срубил, чтобы как-то отрешиться и понять, что происходит, я ходил зимой купаться на Казанку. И выставки тоже отсюда растут — это всегда постановка вопроса и одновременно попытка вопросы декодировать. Что меня поражает в жизни в России: мы простую жизнь наладить не можем, но при этом считаем, что чудеса должны быть нам подвластны. Мы тяготеем к волшебному и к ничтожному разом.
И все же хочется больше узнать про ваш опыт возвращения к советской материальной культуре. Что вы вынесли оттуда?
Возьмем клатчи из «Женского» — я специально 16 разных выбрал. Если бы меня до этого спросили, какие были советские клатчи, я бы сказал: да какие, коричневые, и все. А на самом деле там есть свои нюансы, разные фабрики, разные материалы, находились какие-то люди, которые старались вложить в этот предмет обихода что-то свое. И любопытно: вот в Америке появляется поп-арт и полностью меняет эстетику. У нас в это время становится модной другая застежка, и эта деталь постепенно меняется по всей стране. Функция предмета, качество кожи, силуэт остаются неизменными, а застежка другая. Когда смотришь на это, понимаешь, что мы могли бы спокойно стать в конце 1960-х Северной Кореей — сразу после Карибского кризиса. Можно было заблокироваться — и все, баста. Но спасли все культура и космос — через это продолжалось сообщение с Западом.
Когда я был маленький, лет 12, мне в руки попался журнал «Америка», где было написано про корни абстрактного экспрессионизма. Я на тот момент Шишкина любил, а тут такое потрясение — совершенно другая иерархия. Ничего не понимаешь, но от впечатления отделаться не можешь. И так не только со мной. Приезжал в 1980-х к нам в Казань один татарин из Питера, я ему подарил этот журнал, и он тоже обезумел, бредил этими картинами. Мы часто совершаем логическую ошибку: мол, мы тут в России самые умные, а на Западе извращенцы какие-то непонятно что делают. Но человек по своей природе тяготеет к новизне. И мы не знаем, где граница между этикой и эстетикой. Но я считаю, что когда в эстетике окрепнешь, то и этически не будешь вести себя как попало: художественное мышление — это программная вещь для личности.
А как складывались ваши отношения с вещами в советские годы, в условиях дефицита?
Люди делятся на два типа — есть те, кто будет носить униформу, если им предложат, просто потому, что это удобно, и те, кто захочет выделиться. У меня родители любили одеваться — мама была поваром в одной из главных столовых города, в доме Кекина, но у нее была своя портниха. Отец умер рано, в 35 лет, ни за что не скажешь с виду, что татарин: голубоглазый, светловолосый, чистый немец. Он тоже сам себе одежду подрезал, любил синие пальто. Мне, видимо, это по наследству досталось, я об этом часто задумывался. Я присматривался и к стилягам, и к хиппи, и, позднее, к панкам. И мне не нравится, когда говорят, что это какое-то подражание западной стилистике, — да не подражание это, а человек вот таким родился, с таким стремлением. Закинь его в Америку — может быть, он там стал бы главным панком. Важен вектор, а не то, как он проявляется.
Для душевного комфорта мне нужно разнообразие, а не упрощенка. Мне кажется, что наши руководители, когда получают власть, начинают думать, что они будут жить вечно. Меня периодически удивляют чиновники. Хотя я стараюсь с государством не контактировать, но все равно есть всякие музейные дела, и там, конечно, есть чему удивляться. В 1991 году я приземлился в Хитроу, и это было потрясение — почему они научились так ладить и договариваться? Почему их структуры проросли с верха и до самого низа и наоборот? У нас же везде какие-то потери коммуникационные, коррозия. Может, мы так и будем жить — вот Индия так живет, и ничего. Но там климат помогает.
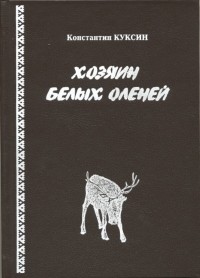
Какие книги вас сформировали?
Книг у меня в детстве не было. Я ходил в библиотеку и читал все сказки подряд — русские народные, народов Крайнего Севера, зарубежные, африканские. Думаю, отсюда берет начало какой-то романтизм, присущий мне. А когда стал постарше, влюбился в Дюма. Я стал читать книги про войны и стал таким полководцем без военных действий: читал много исторической литературы, стал разбираться, где какие войска были, разведчики. Я захотел стать военным: поступил в военное училище, но у меня заболели гланды, и меня не взяли. Потом я как-то быстро переключился, первоначальная влюбленность ушла. Я поступил в художественное училище на художника-бутафора, а потом меня забрали на китайскую границу, где тогда была сильная напряженность. Там меня стали вербовать в органы: несколько недель прессовали, чтобы я ехал экзамены сдавать, обещали всякое. У них был свой план на меня — я мальчик сообразительный, аккуратный, спортом занимался, конечно, родина таких разыскивала. Я с трудом отбился, мне армия уже многое показала. Я думал, там гусар на гусаре, а там такая же братва. Вся Россия ею нашпигована, такой тип отношений базовый у нас.
А диссидентская литература до вас не доходила?
Нет, я тогда ее не знал совсем, в Казани с этим было плохо. Была у меня учительница географии, которая рассказывала, как Василий Сталин задавил человека, выезжая из Казанского Кремля, и дело замяли. Остальные были выдрессированные, никогда не упоминали о чистках, о лагерях. А среда вокруг была такая, что никто об этом не думал. Шпана, которая, еще учась в школе, была готова после выпуска сесть в тюрьму и начать новую тюремную жизнь. Так и вышло, большинства сейчас уже нет в живых.
Наш дом был на месте стадиона имени Ленина, потом его снесли и прогнали нас на Федосеевскую. Когда там начали строить мемориал Ленина, нас снова согнали. Так Ленин меня и гоняет всю жизнь. Сейчас сложно представить, как люди жили на Касаткина прежде, — а там были сады, частные дома, просто рай в центре города. Потом уже попал мне в руки «Котлован» Платонова, его еще не печатали, и это было потрясением — как от реальности, на которую он открывал глаза, так и от его языка. Я и не знал, что русский язык может быть таким. А потом Шаламов и его рассказы про лагеря. Я не озлобился, просто понял, где я живу. И, конечно, роль разведчиков переосмыслил и до сих пор радуюсь, что не пошел тогда в КГБ.
Какая атмосфера была в художественном сообществе в Казани в годы позднего СССР?
В Казани не было никакого андеграунда, к которому можно было бы примкнуть. Были люди постарше, которые на что-то замахивались, брыкались, пытались выставки делать. Было много встроенных в идеологию. Я прошел между — у меня даже образование театрального художника-оформителя было. Это нормально, посмотрите на Москву: там многие современные художники выросли из полиграфистов и иллюстраторов детских книг. Потому что это тема детства их защищала, все странности, наивности и заумности в нее можно было спрятать. Но мы же знаем, что детские программы — это человеческие программы, и они, безусловно, повлияли на многих. Потом в какой-то момент я понял, что не хочу быть оформителем — не хочу смешивать краски и красить всякую фигню. Диплом я получил, чтобы, когда какой-нибудь участковый говорил: «Ты художник? А ну-ка покажи диплом», мне было что ответить. Бездумно учиться нет смысла, все ремесло постигаешь на практике. Для провинции притягательны были столичные вузы, потому что это давало доступ в музеи. Но и сюда проникал как-то русский авангард, несмотря на запреты, буквально через отдельных людей. А чтобы начать охотиться за запретным плодом, достаточно узнать, что такое было. На ловца и зверь бежит.
Чем вам запомнились 1990-е в Казани?
Наверное, главное откровение эпохи, причем не только здесь, было в том, что людям наконец-то дали возможность высказываться. Пошло очень бурное время — делание выставок, вот этот энтузиазм, иллюзия. Это похоже на
Вопрос о деньгах не стоял. Делали даже не по убеждению... Миссионерство — некрасивое слово, но вот оно присутствовало. Потому что ты ведь можешь спокойно любить искусство для себя, делать что-то и складывать в коробочку, а тогда было желание делиться. Очень острое время. Сегодня все эти программки свернулись.
Единственное, тогда была более сложная часть жизни — расцвет всякого бандитизма. Всем дали свободу и возможности, и все-таки первыми их взяли бандиты. Потому что это очень активные части населения — художники и бандиты, они такие пионеры всего нового. Мы с ними даже пересекались иногда. Была история: мы искали место под выставку, и вот однажды доискались. Один человек вывел нас прямо на некую, я так понял, малину. Крутые ребята, еще живые. Привели нас в гостиницу, а у них там холл, игровые автоматы. Говорят: «Так, картины, значит». Картины, некая красота в их понимании — это, как минимум, женские образы, ню какие-нибудь. Нам предложили: повесим ваши картины вот тут, между автоматами, они будут привлекать. Человек сначала на автомат смотрит, потом на картину. Этот проиграет, например, а тот выиграет и картину купит. Я думаю: ну все, попали мы.
В 1990-е также появился рынок искусства, стараниями таких людей, как Гельман. Как вы смотрели на эти московские процессы собирательства и укрупнения галерей?
Гельман — это такой мощный биржевик, для него художники как ценные бумаги. Понятно, почему Москву многие художники не любят: даже если ты выставляешься и на тебя ходят люди, твою судьбу определяют те, кто выращивает рынок, готовит конкретных художников для аукционов. Когда «Фундаментальный лексикон» Брускина продался за 220 тысяч фунтов в 1988 году, у всех глаза распахнулись. Это нереальные деньги, за 800 фунтов я мог тогда квартиру в Казани купить. И в Москве стал образовываться своего рода картельный сговор: мол, все, сейчас мы сформируем вам повестку. Для этого много художников не нужно, наоборот — чем меньше, тем лучше. Чтобы, куда ни придет бизнесмен, везде Дубосарский с Виноградовым. Потому что одно дело продавать за 1000 долларов, а другое за 100 тысяч: деньги разные, а париться надо одинаково. В итоге рынок так и не отстроился, он и не туда, и не сюда. Сейчас пошла обратная волна — я в «Гараже» на открытии триеннале шутил, что, мол, импортозамещение началось.
Как вы работаете?
Я не теоретик, у меня много спонтанных работ — без первоначальной идеи, без эскиза. Для меня важна тактильность изобразительных средств. Я с самого начала хотел заниматься фактурной живописью. Интересно, что сейчас, спустя годы, многие реагируют на мои ранние работы словами «А можно потрогать?». Старая облезлая Казань с ее обилием фактур, я думаю, тоже отозвалась здесь.
Какую роль играет в вашей жизни мастерская?
Каждый художник, вне зависимости от степени таланта, мечтает о мастерской. Во-первых, она физически нужна, чтобы ты в каком-то пространстве мог творить. Во-вторых, это вопрос самочувствия и самоопределения: ты понимаешь, что ты художник, если у тебя есть мастерская. Конечно, это не императив и существует много других критериев. Но по молодости это казалось мне очень важным.
Мастерских у меня за всю жизнь было несколько. Когда не было полноценного рабочего места, рисовал в квартире на Касаткина — выделил себе пятачок на кухне и писал. Тогда мне казалось, что у меня никогда не будет мастерской. В Казани очень сложно снять что-то отдельное — если у тебя нет еще одной квартиры или бабушка тебе ничего не оставила, рисуешь дома. Бывало, выходил на улицу писать с натуры, но это быстро кончилось, потому что мне было попросту неинтересно.
Первую полноценную мастерскую я делил с товарищами — мы сняли ее в общежитии КАИ. Студенты, помню, грабили нас постоянно. Однажды украли череп, с которого мы рисовали правильную анатомию. Потом была попытка снимать комнату. Потом мне повезло — теща на улице Баумана получила большую квартиру. Я там 15 лет проработал. А потом Баумана стали ломать, и теще дали квартиру в два раза меньше на Горках. В итоге я вступил в Союз художников и получил официальную мастерскую. Раньше она была частью длинного кабинета, но потом его разделили стенами. Здесь все было завалено — я, конечно, навел порядок, но в конце концов снова все завалил, видимо, у места карма такая.
Раньше Союз художников следил, чтобы мы все держали в порядке и платили деньги за коммунальные услуги. Еще обязательно было участвовать в выставочной деятельности. Некоторые ведь получат мастерскую, а потом начинают в ней ремеслом заниматься, чтобы выжить: картинки раскрашивать, табуретки чинить. А в больших залах не выставлялись. Но за это наказывали. А были художники, которые нарисуют один набор и 10 лет одно и то же на выставках показывают. У них в мастерской обычно — стол и коврик. У одного, помню, даже ковровая дорожка к столу вела, как у партийных. Я всегда от таких изумлялся. В моей сначала была помойка, где сидели оформители, которые рисовали идеологию, а потом я превратил ее в место, где воплощаю свою фантазию. Тоже идеологию, но личную.
У вас был кто-то, кого вы можете назвать своим учителем?
Ильдар Зарипов, татарский классик. Для меня это номер один. Он был протестный, бился за культуру, очень ее любил, тяготел к народному и примитивному. Притом он так же бился и за заказы — у него «Волга» была, пикап. Право на обладание ею ему дал Кабинет министров. Он не был для меня авторитетом в материальном плане, но я радовался, что большой художник и так может — не ходить же всем сгорбленными под грузом чисто бытовых неприятностей. Я ему как-то принес свою работу — из той серии, что в Праге потом выставлялись. Я тогда искал саспенса, странных состояний души, а он скептически отреагировал: мол, лучше за натуру держись, она тебя вытащит. Потом я ему принес этюды с натуры, и он их расхвалил. Ну, это его видение, он такой брутальный, народный, кайфовый, ему эти странные состояния просто чужды. В итоге меня все равно туда же вывело, хотя я и сделал очень большой круг. Я начинал как совсем фантомный художник, рисовал восточные этюды, очень эфемерные; в советское время я их никому не показывал, упекли бы в психушку. А потом это все вместе со сказками отошло на задний план, и оказалось, что самое главное в искусстве — не просто гонять эстетику, а все-таки сама жизнь. Так я и подсел на предметный мир, стал его анализировать, собирать. Сейчас я готовлю выставку, основанную на архивах советских людей. Многие ведь не выбрасывают справки, хранят их где-то, целые чемоданы набираются. Есть понятные, вроде медицинских, а есть и странные — на покупку грузовика дров, например. Я хочу довести свою антологию советского человека до конца.
Фото: Даша Самойлова














