

Историк-медиевист Михаил Майзульс: «Паблик „Страдающее русское Cредневековье” наверняка бы обвинили в оскорблении чувств верующих»
В этом году в издательстве «АСТ» вышла книга искусствоведа Дильшат Харман, культурного антрополога Сергея Зотова и медиевиста Михаила Майзульса «Страдающее Средневековье». Соавторами идеи издания стали создатели одноименного мем-паблика «ВКонтакте», в котором к миниатюрам из средневековых летописей добавляют смешные комментарии. Весной Михаил Майзульс приезжал в «Смену» в рамках совместного проекта ЦСК и «Инде» «Теории современности» с лекцией «Смех не грех? Пародия на сакральное в Средние века». Мы расспросили его о том, откуда мем-мейкеры брали картинки, что означают звери в одежде клириков и каким был юмор эпохи Реформации.
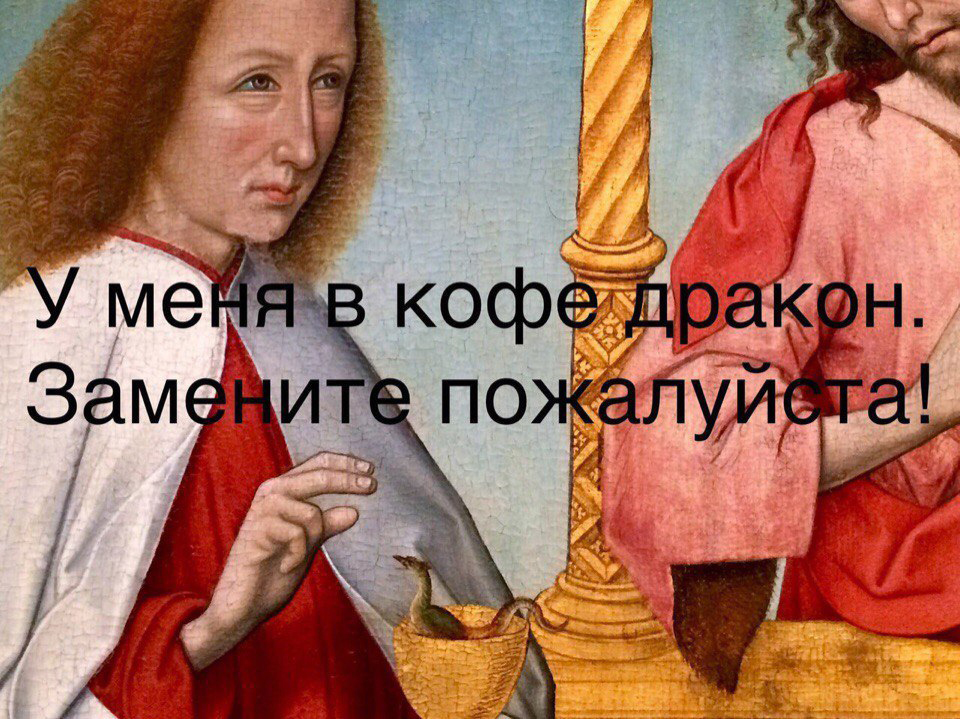
Что за картинки в «Страдающем Средневековье»? Откуда они и как вошли в оборот — научный и авторов паблика?
Сразу скажу, что кроме названия у паблика и книги мало общего. В какой-то момент издательство «АСТ» предложило создателям «Страдающего Средневековья» Юрию Сапрыкину и Константину Мефтахудинову сделать одноименную книгу. Я с ними был немного знаком, и, когда Юрий позвал меня в проект, с радостью согласился. Моя идея была в том, чтобы переключить внимание читателей на подлинный контекст бытования всех этих иллюстраций. Естественно, в книге мы не могли рассказать обо всех изображениях сразу, поэтому у нее более узкий сюжет. Меня и моих соавторов, Дильшат Харман и Сергея Зотова, в частности, заинтересовало, как в средневековом искусстве происходит странная сцепка между священным и чем-то, казалось бы, совсем с ним не совместимым — смешным, магическим, алхимическим, непристойным. Книга рассказывает, откуда взялись многие сюжеты христианской иконографии, которые в более позднее время были уже немыслимы; о том, как в Средневековье, которое воспринимается как эпоха тотальной — и это почти не преувеличение — религиозности, отношение к священному было подчас гибче, чем в более поздние времена.
Отвечая на ваш вопрос, большинство «картинок» в паблике — это книжная миниатюра, иллюстрации к разным рукописям: от библий, псалтырей и часословов до рыцарских романов и исторических хроник. Среди них много маргиналий — то есть рисунков на полях, и это развеселый и странный «перевернутый мир». В книге мы помимо миниатюр привлекаем почти все формы средневековых образов — от крошечных паломнических значков до монументальной скульптуры и витражей.
Вообще для историков-медиевистов сейчас золотое время. Я думаю, паблик «Страдающее Средневековье» невозможно было бы реализовать 15 лет назад — и не только потому, что тогда «ВКонтакте» еще не было. Придя в любой европейский исторический или художественный музей, вы наверняка найдете там средневековый отдел — где-то получше, где-то похуже. Там будут скульптуры, алтарные панели, в лучшем случае — витрина с каким-нибудь манускриптом, открытым на конкретной странице с красивой миниатюрой. Но в целом природа рукописи не предполагает экспонирования — манускрипты, лежащие под стеклом, нельзя пролистать. Поэтому то, что связано с монументальным искусством, было более или менее известно широкой публике давно, а тысячи рукописей с сотнями тысяч изображений долгое время были доступны только специалистам. Но в последние пять-десять лет западные архивы, музеи и научные центры стали активно оцифровывать свои рукописные собрания. И это количественная революция, переходящая в качественную. Сегодня и историк, и интересующийся неспециалист может с домашнего компьютера получить доступ к изображениям, которые раньше видели единицы.

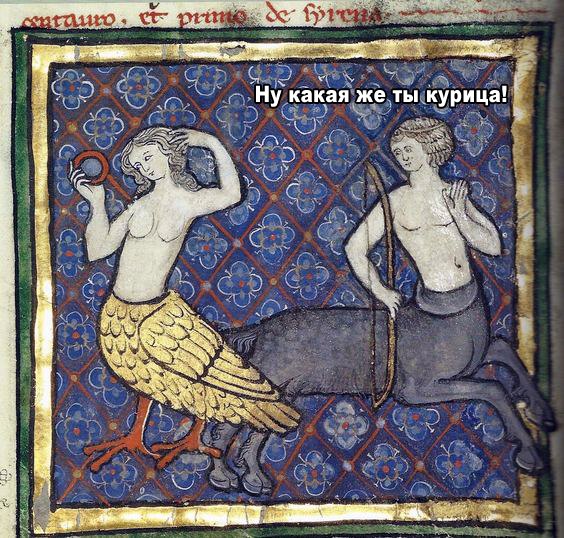
Вы назвали маргиналии «перевернутым миром». Это какой-то термин?
Это известная среди историков формула, которая точно описывает множество разных сюжетов, популярных в литературе и искусстве Средневековья. Все они построены на инверсии — комичном переворачивании ролей: женщины берут на себя функции мужчин и повелевают в семье, крестьяне вдруг оборачиваются господами и так далее. Эффект переворачивания с ног на голову и делает маргиналии смешными: рыцарь в обычном мире должен быть храбрым, а на полях рукописи он пасует перед улиткой или спасается от зайца. В обычном мире сеньор со своими псами охотится на зайцев, а в маргиналиях звери преследуют охотников.
В книге вы исследуете только визуальные источники?
Нет, мы также обращались к житиям святых, сборникам проповедей, толкованиям библейских текстов и алхимическим трактатам — в общем, ко множеству средневековых сочинений, которые могли помочь правильно интерпретировать изображения.
Средневековье — это почти тысяча лет, очень большой временной промежуток. К какому именно периоду относятся изображения, которые вы изучали? И из каких они регионов?
В основном это XII−XV века, хотя иногда мы залезаем и в Новое время. Например, чтобы рассказать о «карикатурной войне» между протестантами и католиками в XVI веке. В средневековой иконографии изображения гибридных — то есть созданных из кусков тел разных живых организмов (зверей, рыб, птиц, людей) — существ, которых можно назвать монстрами, применялись как инструмент осмеяния и обличения. Лютеране и кальвинисты, критикуя институт папства и всю Римскую церковь, изображали понтификов в облике семиглавых драконов и прочих чудовищ, что должно было продемонстрировать их родство с дьяволом. Католические художники тоже не скупились на визуальные обличения еретиков. И эти изображения — один из главных истоков политической карикатуры, какой мы ее знаем в XIX−XX веках.
Четких географических рамок в книге тоже нет, но большая часть материала — из Франции, Германии, Англии и Италии. Изображения из Скандинавии и Восточной Европы мы почти не использовали, хотя многие из интересующих нас сюжетов были известны и там.

Изображения как-то различаются в зависимости от региона?
У всех частей католического мира, безусловно, своя специфика, но ее изучение и описание в нашу задачу не входило. Нас скорее интересовали общие сюжеты и общие принципы. К примеру, одна из моих глав книги посвящена нимбам. Есть представление о том, что нимб в средневековой христианской иконографии — это исключительно печать святости. Это, конечно, так, но порой с такими же ореолами, как святые, изображались и грешники, и царь Ирод, или даже Антихрист с Сатаной. Над их головами нимб, конечно, символизировал не святость, а особый статус — принадлежность к числу монархов или особую сверхъестественную природу. В книге мы рассказываем, как этот знак функционировал в разных традициях — от Египта до Испании.
Или, скажем, монстры — тоже сюжет, общий для всей западной иконографии. Иногда это хорошо известные еще c Античности создания: кентавры, сирены, грифоны и прочие их собратья. Иногда — фантастические существа без имени и без биографии. Стоит открыть какую-нибудь английскую или фламандскую псалтирь, как на полях нам покажется существо с ногами льва, хвостом змеи, головой человека и в епископской митре или нечто подобное. Для чего они были нужны и что означали? Историки долго об этом спорят. Вероятно, чаще всего они должны были просто радовать глаз и смешить. Некоторые из таких изображений, возможно, имели дидактическую функцию и были своего рода протокарикатурами, сатирой, высмеивавшей разные сословия с их пороками. Или визуальной пикировкой между аристократией и духовенством, белым духовенством и монашеством, старыми монашескими орденами и их конкурентами среди нищенствующих братьев — францисканцев и доминиканцев.
Дидактическая и увеселительная функции могли пересекаться? И были ли какие-то еще?
Конечно, могли. Вернее, какие-то монструозные образы могли выполнять свою дидактическую функцию (например, высмеивать пороки духовенства) именно благодаря тому, что приковывали к себе взор и вызывали смех. Особенно ярко это видно в «карикатурной войне» между протестантами и католиками. Например, на одной протестантской прокламации была иллюстрация: дьявол испражняется папой Римским. Это одновременно и грубый юмор, и обличение. Вероятно, чем смешнее и грубее было изображение, тем оно было более эффективным. Кстати, интересно, что язык телесного низа, заземляющая образность — испражнения, эрегированные пенисы и гигантские вагины, демоны, кормящие кого-то грудью, — использовались на полях в том числе священных книг.
Еще одна предполагаемая функция маргиналий — мнемотехническая. Возьмем, например, рукописи по римскому или каноническому праву. Там на полях рядом с параграфами Кодекса Юстиниана или Декрета Грациана можно увидеть различных монстров или непристойные (на современный взгляд) фигурки, вроде клириков с огромными фаллосами. Такие изображения, как правило, прямо не связаны с самим правовым текстом. Некоторые историки предполагают, что они были нужны, чтобы читатель, вгрызающийся в этот сложный и очень техничный текст, легче ориентировался внутри рукописи, используя такие рисунки как визуальные зарубки.



Как маргиналии менялись на протяжении своей истории?
Приведу один пример. Тот тип декора, который мы привыкли называть маргиналиями, заполонил поля рукописей в XIII веке. С самого начала там было множество пародийных и непристойных сценок, а среди них регулярно встречались насмешки над духовенством (впрочем, другим сословиям тоже доставалось изрядно). Представьте, на полях псалтири, по которой молился кто-то из служителей церкви, нарисована обезьяна-священник. Она служит мессу, а вместо алтаря перед ней другая обезьяна подставляет свой зад. В XV веке такие сюжеты появляются уже реже — в моду входят цветочный декор, изображения птиц, бабочек и прочих природных красот, выписанных настолько реалистично, что их хочется снять с листа. Появляется мода на trompe l’oeil — почти трехмерные изображения украшений, четок, паломнических значков или других предметов из арсенала тогдашнего благочестия. Игривые непристойности и антиклерикальные выпады, которые легко встретить в XIII−XIV веках, постепенно уходят.
При этом старые изображения не уничтожают. Почему?
Во-первых, потому, что до Реформации в них вряд ли кто-то видел какую-то угрозу. Во-вторых, непродуктивно судить о том времени в категориях современного государства с его эффективным бюрократическим аппаратом и инструментами контроля и принуждения. У католической церкви и у государств домодерной эпохи не было всепроникающего контрольно-карательного аппарата: никто бы не стал что-то вымарывать из книг, как в СССР избавлялись от упоминаний Троцкого в энциклопедиях. Если церковь признавала образ еретическим и опасным, его, конечно, могли уничтожить, но это были редкие случаи, не система.
Да, в XIII веке могли спорить о том, дозволено ли изображать Христа, прибитого к кресту тремя, а не четырьмя, как повелось исстари, гвоздями, а в конце XIV века канцлер Парижского университета Жан Жерсон критиковал складные статуи Девы Марии с Младенцем, у которых внутри помещалось изображение Троицы, — ведь кто-то из простецов мог решить, что через Деву воплотился не только Сын, но и Бог-Отец со Святым Духом. Но такие сомнения, даже если они звучали из уст иерархов, почти всегда оставались их частным мнением — примеров того, чтобы какие-то образы централизованно изымались и уничтожались, нет. Конечно, клирики регулярно сжигали книги, сочиненные еретиками, или писания иноверцев (например Талмуд), но контроль над Словом на средневековом Западе был более жестким, чем контроль над Образом.
А в XVI−XVII веках, после Реформации, когда средневековые маргиналии своей непочтительностью и непристойностью действительно могли уязвить благочестивый взор, рукописи, в которых они содержались, уже были вытеснены из практического оборота печатными книгами. Их начали коллекционировать и воспринимать как старинную редкость, так что смысла вести с ними тотальную войну уже не было. Совсем другое дело — культовые образы или декор в храмах, куда верующие ходили на богослужения. Витраж или каменная скульптура имели воздействие на более широкий круг людей, поэтому у архитектурных элементов с сомнительными изображениями было меньше шансов уцелеть, чем у рукописей.




Возвращаясь к золотому периоду маргиналий — были ли у художников какие-то табу?
Сложно сказать. Ни в каких источниках они прямо не проговариваются. Но наверняка были. Например, мы вряд ли встретим пародийные распятия или изображения Бога-Отца в облике обезьяны с седой бородой.
Но вообще границы допустимого четче видны не в изображениях, а в текстах. От Средних веков осталось достаточно много пародий на жития, мессы или проповеди, которые клирики сочиняли на латыни. Была, например, «месса пьяниц» — в ее основе лежала структура обычной мессы, но основные термины из возвышенного регистра заменялись на что-то созвучное, связанное с радостями винопития: таверны, кубки, опьянение и все в таком духе. Изучая подобные модификации, американский историк Марта Бейлесс заметила, что в них обыгрываются почти все части мессы, кроме евхаристического канона — текста, с помощью которого священник пресуществляет хлеб и вино в плоть и кровь Христа. Вероятно, модифицировать этот текст считалось совсем уж неуместным.
Можно ли сказать, что корни сегодняшнего либерализма европейского публичного дискурса стоит искать в Средневековье?
Я помню, как после теракта в редакции Charlie Hebdo вышла статья архитектурного критика Григория Ревзина. В ней он, в частности, объясняет, почему этот журнал трудно представить себе где-либо, кроме Франции (по сути имея в виду, что его трудно представить в России). Такой тип политического юмора — с его грубой телесностью и постоянными отсылками к сексу — отзвук средневековой и ренессансной традиции осмеяния (вспомним Рабле). По его мнению, специфика западного христианства (Ревзин говорит только о Франции, но я бы посмотрел шире) в том, что там носителями скабрезного, в том числе обращенного на саму церковь, юмора долго было и духовенство. В этом он видит одну из причин «радикализма европейской свободы».
Юмор маргиналий был понятен всем средневековым людям? Или в нем были какие-то более глубокие уровни, скрытые смыслы для образованных и посвященных?
Скорее всего, существовали разные уровни восприятия, но наверняка сказать сложно. У историков есть изображения — зачастую довольно странные. Мы сами часто не уверены, что толкуем их правильно, и не знаем, как это делал средневековый читатель: дневников, авторы которых писали бы что-то вроде «сегодня видел уморительную картинку в часослове», к сожалению, нет. Вообще свидетельства конкретных средневековых зрителей о конкретных (да еще дошедших до наших дней) изображениях — огромная редкость. И обычно они касаются монументальных образов — скульптурных порталов соборов или изображений, считавшихся чудотворными, а потому привлекавших взоры паломников.
Есть вероятность, что такие тексты еще найдутся?
Кое-что найтись может. Но важно понимать, что люди редко записывают свои рутинные впечатления. У нас в небольшом количестве есть инструкции для миниатюристов. Иногда на полях или в пустых пространствах, оставленных для художника, попадаются короткие заметки по поводу того, что следует нарисовать. Но они касаются основных элементов декора — миниатюр и инициалов. Как правило, маргиналии не были жестко привязаны к текстам, которые шли на тех же листах. Поэтому что именно изобразить на конкретном листе, мог решать сам художник — без консультаций с заказчиком или клириком-консультантом. Но не надо представлять их творцами, мучительно пытающимися создать что-то уникальное и оригинальное, чтобы быть лучше, чем коллега Жан. Идеи брались из какого-то общего фонда и кочевали из одних рукописей в другие с незначительными вариациями.
Как вы думаете, почему мемы «Страдающего Средневековья» создаются только на основе западноевропейских рукописей? Ведь миниатюры были в российских летописях — в Радзивилловской, в Лицевом летописном своде.
Во первых, изображения из русских летописей (которые вообще-то иллюстрировали нечасто) менее разнообразны и более стереотипны. В Лицевом своде Ивана Грозного тысячи миниатюр с множеством разных сюжетов из библейской, римской, византийской и русской истории, но эти сцены комбинируются из ограниченного числа визуальных элементов («горок», видов городов и зданий и так далее), а персонажи по своему облику и костюму очень слабо индивидуализированы. Из-за такой стереотипности придумать к ним смешной комментарий намного сложнее, чем к западным миниатюрам. Во-вторых, если западные рукописи оцифровывают очень активно, то для древнерусских источников этот процесс пока только начинается (хотя уже, скажем, есть потрясающий проект с оцифровкой собрания Троице-Сергиевой лавры).
Ну и в-третьих — безусловно, есть древнерусские рукописи со светскими сюжетами. Те же летописи, космографии или «физиологи» — аналоги западных бестиариев (энциклопедий, где за каждым животным закреплено множество богословских и аллегорических толкований. — Прим. «Инде»). Но подавляющее большинство визуального материала — это все-таки иллюстрации к житиям святых, библейским текстам и так далее. Мне кажется, что в современных российских реалиях паблик «Страдающее русское Средневековье», в котором изображения из житий Сергия Радонежского или Савватия Соловецкого кто-то решил снабдить ироничными комментариями, быстро бы обвинили в кощунстве и оскорблении чувств верующих. Католические сюжеты не ощущаются как «свои». Они не похожи на привычный сакральный язык восточнохристианского искусства. Поэтому, с одной стороны, они более безопасны, с другой — более странны и потому притягательны.



