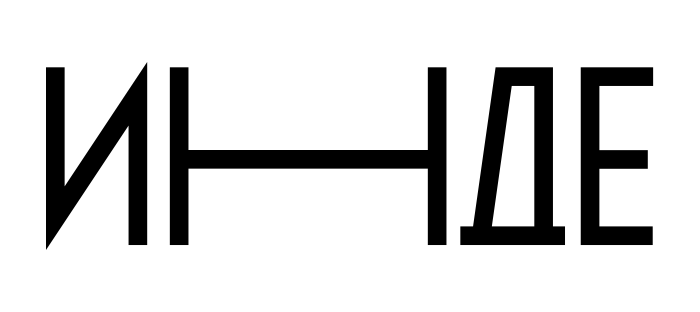«Здешняя история не только про нефть, и нам важно это подсветить»: монологи режиссеров и куратора театральной лаборатории «Караш» в Альметьевске
С 28-го по 30 марта в Альметьевске при поддержке Благотворительного фонда «Татнефть» пройдет фестиваль-итог лаборатории «Караш», первой части местного театрального проекта «Аркадаш». «Караш» — комьюнити молодых режиссеров, студентов ГИТИСа, которые исследуют районы юго-востока Татарстана и создают на основе находок свои спектакли.
Подготовка к постановкам — всего их будет пять — идет с октября прошлого года. За несколько дней до фестиваля мы встретились с тремя режиссерами лаборатории «Караш»: Талией Тухфатуллиной, Камилем Гатауллой и Ильнуром Гарифуллой, а также куратором проекта Туфаном Имамутдиновым. В получившихся монологах они рассуждают о театре, национальной идентичности и особенностях локальной культуры.

Туфан Имамутдинов
главный режиссер Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина, куратор театрального проекта «Аркадаш»
Концепция лаборатории «Караш» родилась из многостороннего запроса. Я уже четыре года готовлю абитуриентов к поступлению в ГИТИС — семь человек учатся на разных факультетах и курсах у разных мастеров. Очень хотелось дать студентам, большинство из которых обучаются по целевой программе, возможность сделать свои первые шаги в режиссуре. И хотелось, чтобы это была не очередная постановка по Чехову, Шекспиру или Мольеру, а что-то интересное для Татарстана. Чтобы зрители могли идентифицировать с собой то, что будет происходить на сцене. В творческом объединении «Алиф» мы занимаемся темой исследования национальной культуры уже восьмой год и хорошо представляем, что может быть интересно зрителю. Поэтому с фестивалем «Аркадаш» мы пришли на уже подготовленную почву.
Нам было важно найти локальные проблемы и преподнести их в современной театральной форме. Виделось какое-то интересное движение с итогом в формате фестиваля. Эти идеи нашли поддержку со стороны ГИТИСа и Благотворительного фонда «Татнефть». Компания дала нам финансовые и административные ресурсы, предоставила площадки, а ГИТИС позволил режиссерам не отвлекаться на сессии во время фестиваля. Еще институт помог организовать приезд своих преподавателей: Олег Долин и Ленара Гадельшина проведут тренинги для местного сообщества в рамках фестиваля. Кстати, регистрация на тренинги закрылась полностью за один день. Такой отклик очень радует: значит, потребность альметьевцев в в разных культурных встречах, коммуникациях, саморазвитии большая. Будем учитывать это при подготовке ко второй части фестиваля «Аркадаш», которая пройдет осенью.
Моя задача как куратора лаборатории «Караш» — что-то скорректировать, подсказать режиссерам. Грамотно доработать тот изначальный творческий импульс, который от них идет. Важно ведь еще избежать синдрома студента, когда все удачные идеи хочется объединить в одной работе, вот зрителям в этом случае будет сложно понять, о чем она. Еще мы хотели сохранить и расширить принцип показов. Обычно то, что делают студенты-режиссеры, показывается на ограниченную аудиторию — для однокурсников и педагогов. А на фестивале можно собрать много зрителей.

Туфан Имамутдинов
главный режиссер Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина, куратор театрального проекта «Аркадаш»
Казань как столица — место, куда стекаются различные культуры, оно вбирает в себя глобальность. До регионов же зачастую все доходит в усеченном варианте. А между тем все исконно татарское осталось именно на окраинах. И очень важно исследовать это. Мы могли пойти простым путем и взять для спектаклей просто тему нефти. Безусловно, судьбы большинства людей в Альметьевске, на юго-востоке Татарстана связаны с этим природным ресурсом. Но здешняя история не только про нефть, и нам важно это подсветить.
Темы, которые затрагиваются в спектаклях, должны быть актуальны. Чтобы люди пошли на это смотреть, их нужно заинтересовать. Значит, все должно быть не абстрактно, а узнаваемо именно для местных. Тот самый принцип локальности в действии. В Казани, конечно, есть насмотренность, понимание, как должны делаться и выглядеть разные интересные проекты, но и в Альметьевске люди видят разное, они привыкли к новым формам. Здесь несколько лет подряд проводится разноформатный фестиваль «Каракуз», есть драматический и уличный театры, театр горожан. Поэтому новые формы театрального искусства Альметьевску не чужды. Место найдется и классической культуре, и современной. Еще в городе сильно развита хореография, а мы знаем, что новые формы театра во многом основаны на пластике, телесности.
Поколение 30–40-летних еще застало то время, когда татарский язык активно преподавался в школах. Я и сам учился в Набережных Челнах в татарской школе, где почти все предметы велись на татарском. В этом случае проще говорить о национальном культурном коде, о связи с национальной культурой. К 20-летним нужно искать иной подход — во многом с точки зрения того, модно это или не модно, круто сделано или не круто.
Люди должны понять, что татарская культура может быть и вот такой тоже: интересной, современной, зажигательной. Тогда люди вокруг и молодежь в частности захотят быть причастными к ней. Они смогут себя с этим идентифицировать. Взять, например, трек «Аигел» — «Пыяла»: он всем зашел, многие стали говорить: «я татарин / татарка, я говорю по-татарски и понимаю, о чем там поется». Поэтому нужно создавать какие-то очень классные, креативные вещи, которые будут транслироваться в мир, и тогда миру это тоже будет интересно.

Талия Тухфатуллина
участница театральной лаборатории «Караш», режиссер спектакля «Культбудка»
Мы начали подготовку к спектаклю с изучения литературного объединения Альметьевска 1960–1970-х годов. Туда входили Гариф Ахунов, Сажида Сулейманова, Адиб Маликов, Клара Булатова и другие писатели и поэты. Пообщавшись со старожилами города, мы поняли, что для нефтяников культура тех лет — не только литература или вообще культура в привычном ее значении. Так мы вышли на образ культбудки — бытовой постройки, где можно отдохнуть и перекусить. Раньше это слово не было нам знакомо, но оказалось, что культбудки были у всех нефтяников. В узком смысле слова это было место для обогрева: на улице минус 40, а в культбудке минус 25, ведь там есть печь-буржуйка.
И тогда мы решили «наполнить» культбудку культурой. Но тут встал вопрос: какой? Это та культура, которую мы представляли себе? Или знакомая и близкая самим нефтяникам? Нужно понимать, что мы, участники лаборатории, — люди приезжие. Со стороны это может выглядеть так: вот мы прибыли из Казани и сейчас расскажем, какая у вас тут локальная культура. Но каждый из нас очень старался все сделать в художественном плане так, чтобы не получилось вранье. Мы не хотели додумывать. А когда слушали нефтяников, я думала: как им было сложно, скольким пришлось пожертвовать! Я была уверена, что эти люди страдали. А потом приходило понимание, что они были счастливы тогда. Поэтому важно было свои эмоции, проекции относительно тех или иных фактов не навешивать на героев.
Думала: я же изучила столько книг, материалов, и везде пишут совсем другое! А с воспоминаниями очевидцев [данные] почему-то расходятся. Возможно, те книги писали не для альметьевцев, а чтобы выстроить некий внешний образ Альметьевска для иногородних. Возможно, это некое мое слепое пятно. Мы, как люди извне, по крупицам собирали образ города для спектаклей. Казалось бы, много слышали про Альметьевск, бывали здесь, что-то видели. Но когда проникаешь вглубь, узнаются совсем другие факты. И важно не быть снобом и не подгонять их под свою идею. Не нужно пытаться домысливать реальность, важно сохранить ее такой, какая она есть. Да, у нас не было возможности провести глубокое исследование, которое длилось бы несколько лет. Но мы можем оставаться максимально нейтральными и объективными в том, что делаем.

Талия Тухфатуллина
участница театральной лаборатории «Караш», режиссер спектакля «Культбудка»
Главное в нашем спектакле — люди. Он построен на воспоминаниях очевидцев, и каждый повлиял на итоговый результат. Зрители тоже станут частью действия. Недавно у нас вышел пост о спектакле, и в комментариях один парень написал, что как раз сейчас сидит в культбудке. Возможно, придя на спектакль, зритель увидит совсем не ту культбудку, которая ему привычна и знакома. То есть где-то она будет суровая, где-то, напротив, очень симпатичная и влюбляющая в себя.
Идейно мы были абсолютно свободны в выборе инструментов и художественных решений при создании спектакля. Единственное, пришлось столкнуться с некоторыми техническими сложностями. Оказалось, что не любой вес можно завезти на площадку, не все материалы получится использовать. Изначально декорации были другими, потом пришлось все переиграть. В общем, нам пришлось внимательно наблюдать за собой и своими иллюзиями, за тем, как они рушились или подкреплялись. Потому что если ты творческий человек и находишь какую-то идею, то влюбляешься в нее. И тебе хочется, чтобы все было подтверждением твоей идеи.
Мне повезло: я росла и училась в татароязычной среде, мое окружение тоже говорит по-татарски. Но так было не у всех. Здорово, что я попала в проект, где люди действительно искренне интересуются вопросами национальной культуры, и в сотворчестве с ними можно еще глубже докопаться до сути многих вещей. Все-таки национальную идентичность важно искать и исследовать, а не придумывать. В этой теме и так очень много интересного, нужно просто уметь подмечать. Так что «Караш» — история и про меня тоже.

Камиль Гатаулла
участник театральной лаборатории «Караш», режиссер документального спектакля-перформанса «Хранители времени»
Документальный перформанс — жанр, которым я себя обезопасил. Я не знал, что будет твориться на площадке, и поэтому обратился к драматургу Дине Сафиной. Попросил ее поразмышлять над тем, что в Альметьевске было до 1953 года. Принято ведь считать, что история города началась только тогда. Стал искать тех, чей род жил здесь до его основания. Ведь до большой нефти Альметьевск был аутентичным, со своей культурой, своим диалектом — по-моему, он даже еще сохранился местами.
Мы с Диной объявили опен-колл, но 95 процентов откликнувшихся оказались связаны с нефтью. А мы четко указали в своем запросе, что нас интересует Альметьевск до большой нефти. Ведь не только же с нефтью должна ассоциироваться альметьевская агломерация. В итоге нашлась семья, корни которой восходят к соратнику самого муллы Альмета, основателя села Альметьево. Нам написала Фарида, дочь 85-летней женщины, у которой впоследствии мы и взяли интервью. Луиза-апа рассказала нам про деревенские обряды, которые сейчас уже утрачены, вообще про свою жизнь и жизнь родителей, которые тоже родом отсюда.
И вот что интересно: Дина стала перепроверять сведения, которые Луиза-апа нам дала, и выяснилось, что моментами она очень сильно путается. Например, говорит о каком-то факте, но дату называет неправильную. Или свидетельствует о ситуациях, где ее быть не могло. Но мы все равно решили оставить в спектакле все, что она говорит. Если порассуждать, любые наши воспоминания всегда немного дополнены, дорисованы.
Классно изучать татарскую культуру с региональной точки зрения. Потому что Казань — все-таки синтез культур, там намешано все, но корней не сыщешь. А в деревнях еще можно обнаружить много исконного. В одной энциклопедии мы нашли, например, информацию, как изготовить курай, как он должен правильно звучать. Оказывается, в каждой татарской деревне обязательно был музыкант, который играл на курае. И любое значимое мероприятие, абсолютно любое, не обходилось без кураиста. Многие старинные обряды татар напоминают языческие. Они были утеряны, видимо, с приходом ислама, но это ведь тоже наш культурный код. Думаю, наш спектакль и про какую-то утрату тоже.

Камиль Гатаулла
участник театральной лаборатории «Караш», режиссер документального спектакля-перформанса «Хранители времени»
В «Хранителях времени» мы совместили документальные исторические факты с документалистикой театральной, то есть с монологами бабушки. Через рассказ женщины разрозненные [тезисы] сложатся в единое полотно. Голос Луизы-апы тоже есть в спектакле, но записан обрывками, потому что это человек 1938 года рождения. Зато в спектакле будут ее глаза. Глаза очевидца, того самого хранителя времени.
Недавно мы рассуждали с актрисой Альметьевского театра Наилей Нахимовой, почему человеку однажды все-таки хочется обратиться к своим корням — вроде бы и так неплохо живется. Возможно, это происходит, когда утрачивается почва под ногами. Когда я слышу исконные татарские мелодии, что-то пробуждается в моей душе. И меня очень тянет домой, на татарскую землю, когда я уезжаю куда-то далеко. Такая необъяснимая связь.
Я татарин, но являюсь отчасти этаким манкуртом. Рос в русскоязычной среде, учился в русской школе, поступил на русскую драму в Казанское театральное училище и сейчас учусь в ГИТИСе тоже на русскоязычном факультете. И никакого соприкосновения с татарской культурой — кроме самого общего, которое есть у всех в нашей республике, — у меня не было. Я на татарском языке общался только с бабушкой, да и то на бытовом уровне. Так что сейчас у меня есть потребность найти ту самую почву. И национальную идентичность я понимаю как возвращение к корням. Народу важно быть самобытным, понимать, кто он и откуда. Нужно помнить об этом, относиться с трепетом и не забывать. Что-то делается, конечно, но, на мой взгляд, еще недостаточно.
Вымирание народов — повсеместная проблема. Какие-то вообще исчезают незаметно, потому что никто не занимается их наследием, не изучает. Мы с Туфаном Рифовичем на театральной площадке MOÑ делали спектакль «Әллүки» про языки вымирающих народов. Например, представителей одной народности осталось не более 150 человек, они живут где-то в лесу, в тайге, и когда этих людей не станет, никто даже не узнает. Это ведь очень важно — не приводить всех к общему знаменателю, изучать и погружаться в разные культуры, обмениваться ими.

Ильнур Гарифулла
участник театральной лаборатории «Караш», режиссер моноспектакля «Хэтер суы» («Ключ времени»)
Идея самого спектакля родилась достаточно быстро, практически сразу, как нам объявили о проекте. А вот концепция его постоянно трансформируется. Я думаю, что формат театральной лаборатории подразумевает под собой не мгновенное, но логическое переключение. Это необязательно может быть нарратив. Если пришла какая-то мысль, ее всегда можно обсудить. И уже исходя из обсуждения рождается некий образ, что-то новое. Изначально я представлял себе концепцию так: кристально белое пространство, в котором существует перформер, а действие происходит под «Страсти по Матфею» Баха. Но потом я подумал: такое ведь уже было, точно кто-то делал до меня. И мы все переиграли.
С форматом моноспектакля я раньше не работал. Артисту в нем, наверное, сложнее, чем режиссеру. Режиссер может видеть все со стороны и как-то по-своему интерпретировать, а актер должен вовлечь зрителей в диалог. И здесь важно все — мастерство исполнителя, его азарт, харизма. Мне важно, чтобы в спектакле от артиста исходил магнетизм, притягательность. Исполнитель в нашем спектакле — не какой-то персонаж, он здесь является самим собой. Просто парень, который живет, и на сцене он тоже должен органически существовать. Актеру Альметьевского театра Рамазану Юсупову я дал непростую задачу: на сцене все должно зависеть от него. Потому что это ведь и в жизни так: все зависит от самого человека.
Кому-то может показаться неактуальной тема родников. У всех из кранов течет вода, и она может быть чище, чем вода из живых источников. Но вода — жизнь. Раньше родник был святым местом, в нем была огромная потребность у каждой деревенской семьи. Получается, вокруг маленького родника разрасталась община, это было сакральное место.
Мы исследовали только источники Лениногорского района, потому что там их больше всего на юго-востоке Татарстана. Ездили по деревням, беседовали с местными старцами, и только они смогли нам что-то рассказать. Потому что для человека приезжего или не вхожего в какую-то коренную семью многое из того, что было в ритуальной системе деревни, оказывалось уже недоступно.

Ильнур Гарифулла
участник театральной лаборатории «Караш», режиссер моноспектакля «Хэтер суы» («Ключ времени»)
Научная притча и эксперимент над мифами и легендами — как будто две вещи, которые развиваются отдельно друг от друга. Легенды и мифы — всегда что-то, на что нужно смотреть «глазами души», там нет научной базы. Наука же изначально предполагает логику и доказательность. Мы предприняли попытку совместить две несовместимые вещи.
Казалось бы, зачем современным горожанам деревенские легенды и мифы? Думаю, они нужны, чтобы добавить таинственности. Вот ты вышел ночью в деревне на улицу, вокруг темно. Вот дом, вот лес, вот сарай. И ты внезапно начинаешь фантазировать, что там могло бы быть мистического. Может, на крыше сидит мифическая старушка, а мимо пробегает неведомое существо... А городским людям все слишком понятно, слишком обыденно и привычно, нет смысла смотреть на это күңел күзе белән («духовным взглядом», с вниманием и интересом. — Прим. «Инде»), как говорила моя бабушка. Это мы и хотим в них пробудить.
Когда мы собирали легенды, поняли, что многие из них усохли до пары предложений. Например, узнали, что вода из некоторых родников была сладковатая, потому что они находились на поле, которое облюбовали медоносные пчелы. Таких легенд в двух-трех предложениях очень много. Но я подумал вот о чем: если родник иссякает, это не означает, что он умирает. Он просто ищет себе другой путь. Так и легенды о том времени, обычаях — наверное, не исчезли.
Или, например, легенда о Хызыр Ильясе — персонаже, которому Аллах даровал вечную жизнь. Таинственный проводник, который помогает путникам. Где пройдет Хызыр Ильяс, там начинает бить родник. Наш артист в спектакле встречает его в момент, когда бульдозером копают землю в поисках источника воды, но не находят его. Старец ему говорит: «Если ты хочешь найти что-то важное, смотри глазами души». Эта идея становится лейтмотивом всей нашей истории. Хочется верить, что у зрителя в процессе тоже пробудится некая эмоциональная память. Есть ведь поверье, что родник будет жить до тех пор, пока в деревне живет хоть один человек. Не люди нужны роднику, а родник нужен людям.
Новая национальная идентичность, на мой взгляд, — возврат к хорошо забытому старому. Ты читаешь, исследуешь, ищешь, и вследствие этого в тебе пробуждаются те ощущения и эмоции, которые спали. Но они есть в твоей крови, все уже заложено в памяти твоего генома. Нужно только немного помочь процессу, и важно найти тот визуальный референс или текст, который запустит механизм. Ты ощутишь что-то не до конца понятное, но важное. Многое давно забыто, что-то окончательно утеряно, поэтому все, что нам остается, — чувствовать сердцем, через память предков. Не механически, а интуитивно.
В программу фестиваля «Караш» войдут не только спектакли, но и лекции, мастер-классы, экскурсия-медиация, а также создание скульптуры в реальном времени. Мероприятия бесплатны и будут проходить на нескольких площадках — возможно, на некоторые из них еще можно успеть зарегистрироваться.
Фото: Лейсан Нуртдинова; Vk; «Гариф Ахунов: хәзинәле гомер»; Vk; Monkazan