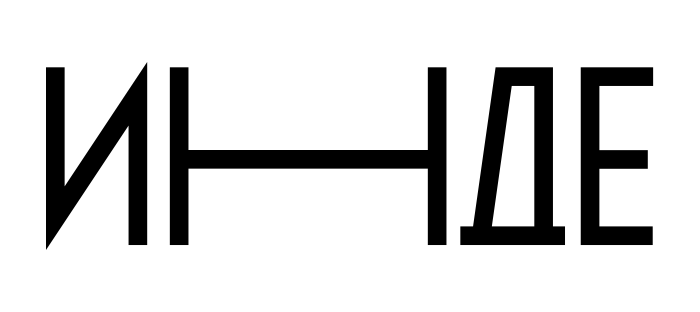«Русские как кокос, а американцы — персик». Истории татарстанцев, переехавших в США. Часть первая
Судя по первым интервью и публичным выступлениям нового министра молодежи Татарстана Дамира Фаттахова, одна из главных задач ведомства — сделать так, чтобы молодежи не хотелось уезжать из Татарстана. Комфортная среда и карьерные возможности действительно способны остановить отток населения, но те, кто уезжает по личным причинам, из-за любопытства или карьерных амбиций, будут всегда. «Инде» рассказывает истории трех молодых татарстанцев, по разным причинам переехавших в США и решивших остаться там надолго.
Больше историй о татарстанцах за границей:
Ирена Каприс, 31 год
В декретном отпуске
С 2009 года живет в Нью-Йорке

Переезд и первые впечатления
Перед последним курсом университета мы с лучшими подругами решили набраться впечатлений и уехали в США по программе Work and Travel. Когда мы вышли из аэропорта в Нью-Йорке, я посмотрела по сторонам и разочарованно спросила: «И это все?» В первое время, чтобы получить хоть какие-то впечатления, а заодно улучшить разговорный английский, я останавливала местных и общалась с ними. А работать устроилась кассиром в турецкий продуктовый магазин Zeytuna — я продавала готовую еду, и, как оказалось, это выматывающий труд, потому что нужно было все время быть на ногах. Постепенно меня затянуло в местную жизнь, и когда программа закончилась, я пообещала себе, что вернусь в США снова.
В 2009 году я окончила КАИ, факультет управления персоналом. Работала я тогда барменом и параллельно пела в университетской группе «Коста Рика». Сразу после выпускного я улетела в США — повышать свой уровень английского в языковой школе. Родители были не против и первое время помогали финансово. Планировалось, что как только я окончу языковую школу, сразу вернусь в Россию: у меня был куплен обратный билет. Но я им так и не воспользовалась.
Параллельно с учебой я работала в лавке, где продавала дурацкие сувениры с надписью I love New York. Пахала по 60 часов в неделю, жила на Кони-Айленде, в полутора часах езды от работы — вставала рано, приезжала к восьми утра и работала шесть смен в неделю по десять часов. Это была работа, которой не занимаются американцы — все мои коллеги были преимущественно эмигрантами. У меня был план-кабан: я все-таки была вокалисткой, и мне хотелось развиваться в шоу-бизнесе. Но когда я услышала, как поют черные девочки, то решила туда не соваться. К тому же акцент бы точно помешал мне продвинуться на сцену.
Работа в сувенирной лавке и скейт-шопе
По соседству с сувенирной лавкой был магазин скейтов. Однажды мне пришло в голову зайти к ним и попросить работу — я тогда любила кататься на доске, поэтому, наверное, меня туда и потянуло. Меня взяли. Но с прошлой работы я не ушла — на полставки работала в лавке, на вторую половину — в магазине с бордами. Моя рабочая неделя была семь дней, а получала я по восемь долларов за час смены. По-другому выжить в Нью-Йорке нельзя — здесь всегда нужны деньги. Я просто сводила концы с концами — в месяц у меня выходило что-то около 1000 долларов, а квартплата была 900 долларов.
Со временем магазин со скейтами стал моей основной работой, и я доросла до линейного директора. Мне везло с боссами — они видели мой усердный труд, помогали двигаться по карьерной лестнице, а еще, что не менее важно, вежливо поправляли меня в английском. В США в принципе любят брать на работу мигрантов, потому что они усердно и много работают, в отличие от некоторых коренных американцев, у кого рядом живут родители и на них всегда можно положиться.
В 2011 году я получила первую руководящую должность. Прошло всего три года после моего переезда, поэтому акцент у меня все еще оставался. Это оказалось проблемой. Мои подчиненные не воспринимали меня всерьез, мой неидеальный английский был поводом для насмешек. Но это человеческая сущность, и она никак не связана с национальностью или расой — склочность и интриганство присущи отдельным людям, а не странам. Вопреки всему я оставалась дружелюбной и исполнительной, училась руководить и в итоге добилась уважения. Исполнительность доходила до абсурда: два года назад, когда я была на девятом месяце, я все равно продолжала работать. В итоге я ушла в декрет, будучи на хорошем счету у начальства. Новый директор обещал, что, когда я выйду из отпуска, меня возьмут обратно.
Если ты работаешь на полную ставку в сфере торговли, тебе обязательно дается медстраховка — за нее у тебя с зарплаты удерживают процент. Чтобы получить полную ставку, нужно отрабатывать по 32−40 часов в неделю. Зато тебе полагается 40 часов оплачиваемого отпуска в год. Младший персонал в США получает в среднем по восемь долларов за час, в банковской сфере — около 14−15 долларов. Правда, эти цифры разнятся от штата к штату. На управляющих должностях получают от 50 до 100 тысяч долларов в год, но это до вычета налогов.
Семья и разница в воспитании детей
Какое-то время я стажировалась в хип-хоп-журнале. Это была неоплачиваемая работа, зато там я встретила новых интересных друзей. Однажды я пришла на вечеринку редакции и увидела там парня по имени Квея, который мне очень понравился. Мы начали дружить, он помог мне записать песню с казанским диджеем. Потом Квея предложил мне стать его девушкой, а в одно из празднований Нового года попросил руки и сердца — подарил кольцо под бой курантов. Родители мой выбор поддержали. Квея они называют Коляном.
Мой муж афроамериканец, поэтому проблема расизма в США для меня ощутима. На нас по-другому смотрят в метро и магазинах, а еще его могут запросто не взять на ту же работу, что и белого мужчину. Квея довольно раскрепощенный, но когда мы выходим на люди, он старается быть сдержанным и не привлекать к себе внимания. В России тоже есть расизм, но он проявляется в другом — у нас все ограничивается обзывательствами и прозвищами.
Как бы банально это ни звучало, но в США и России люди все-таки разные. Когда я возвращаюсь на родину, мне говорят: «Ты слишком вежливая». Наверное, это так — я уже привыкла жить в американской культуре. В этом году я впервые за четыре года оказалась в Казани и чувствую, что очень изменилась за это время. Но и мой город стал другим: появилось много новых заведений, в том числе детских, с аниматорами и игровыми комнатами. В Нью-Йорке это не распространенная практика, потому что аренда помещения там кусается и все экономят место. А еще меня пугали, что со своей строгой диетой из-за аллергии на пшеницу, я не смогу тут нормально питаться. Но, оказалось, теперь в Казани возможно найти практически все.
В этот раз я приехала в Казань со своей двухлетней дочкой. Заметила сильную разницу в принципах воспитания детей: в России очень оберегают маленьких — в жару надевают им шапки и кофты, постоянно бегают за ребенком, лишь бы он не свернул не туда и не упал. Было смешно, когда дочка на набережной Кабана села на детскую площадку с водой, а мамочки бегали вокруг меня и говорили: «Куда вы смотрите! Она же простудится!» Я только качала головой и уверяла, что все в порядке. Ребенок изучает мир, да и вообще сложно простудиться, когда на улице такая жара.
Роза Савельева, 24 года
Танцор, хореограф, режиссер-постановщик
Переехала во Флориду в 2011-м, с прошлого года живет в Нью-Йорке
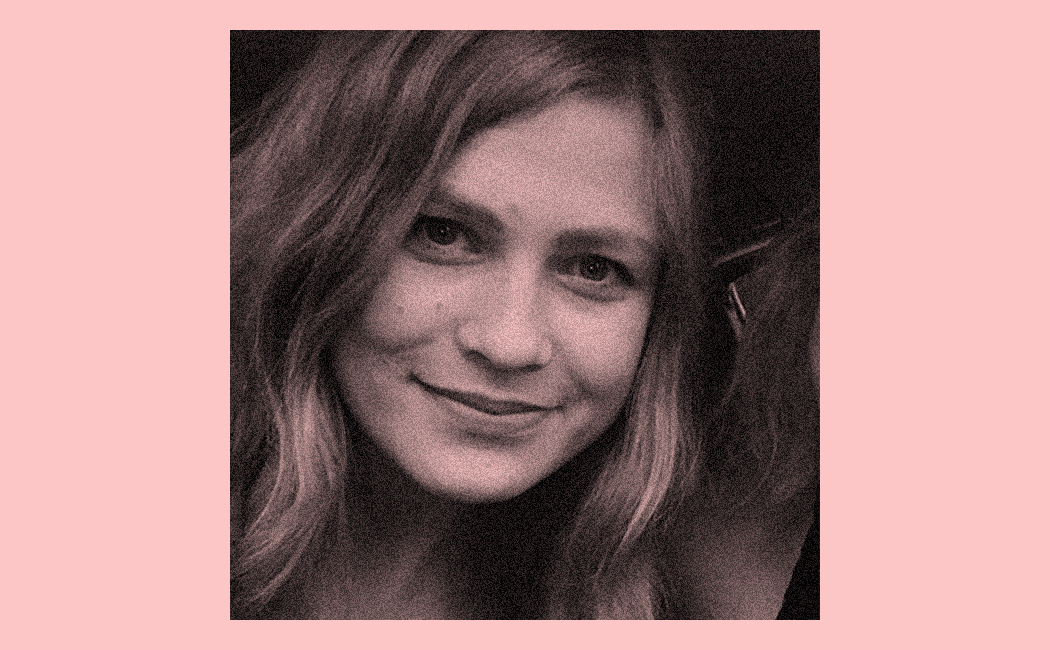
Переезд и танцевальное образование
Мой младший брат играет в теннис, поэтому несколько месяцев в году наша семья всегда проводила во Флориде. Звучит странно, но тренироваться в США гораздо дешевле, чем в Казани: у нас всего один теннисный центр, аренда там стоит бешеных денег, хороших тренеров на весь регион — по пальцам можно пересчитать, турниры — редкость. А во Флориде бесплатные корты в каждом парке, в соревнованиях можно участвовать чуть ли не каждые выходные, а еще туда регулярно приезжают мировые теннисные звезды.
Честно говоря, к окончанию школы я вообще не знала, чем хотела бы заниматься. Думала и про экологию, и про театральный вуз, и про что-то танцевальное (на танцы ходила с пятого класса). Какого-то особенного желания переезжать за границу я тоже не испытывала. Помню, как в мой первый приезд во Флориду папа спросил, хочу ли я учиться тут. Я ответила, что нет, и потом долго отказывалась, но в какой-то момент подумала: «Я что, дура? У кого еще есть такая возможность?!» В итоге в 2011 году я окончила школу и подала документы в небольшой частный флоридский институт — на танцевальное направление.
Быстро выяснилось, что процесс поступления у нас устроен совершенно по-разному: в Америке студенты чуть ли не за год точно знают, куда пойдут учиться, и начинают все оформлять уже в ноябре. Мне с документами помогала мой репетитор по международным экзаменам, и подали мы их онлайн чуть ли не накануне начала учебного года. В итоге, когда я приехала, обо мне в институте никто ничего не знал. Пришлось пропустить год — я провела его в подготовке к SAT, аналогу нашего ЕГЭ. Через год я поступила куда хотела.
С виду институт был очень красивый — новые танцевальные залы, классный ремонт, все дела. Но, проучившись один семестр, я поняла, что образование там не самое сильное и мне нужно искать что-то другое, посерьезнее. Летом в Северной Каролине (от Флориды до нее примерно тысяча километров) проходит American Dance Festival — туда съезжаются коллективы и преподаватели по современному танцу со всего мира. После первого курса я поехала на него и шесть недель посещала мастер-классы замдекана консерватории в Северной Каролине, которую в итоге и окончила. Несмотря на то что прослушивания в консерваторию закончились несколько месяцев назад и я рисковала пропустить еще один год, она разрешила мне перевестись. В консерватории я училась на отделении современной хореографии. Сложно объяснить, что это, потому что сегодня это максимально широкое понятие. Хореографы-бунтари 1960−1970-х годов вроде Марты Грэм или Мерса Каннингема заявили, что танцевать на пуантах не обязательно, а еще танец может быть способом передать свое отношение к политическим и социальным проблемам. Дальше все вылилось в постмодерн — по сути, хореография повторяла тот же путь, что и все современное искусство.
Мое образование было платным — в Америке платят почти все, многие берут кредиты, которые потом приходится долго отдавать. Квоты и стипендии — редкость, они есть во всяких крупных вузах типа Гарварда или Йеля (мне кажется, попасть туда вообще нереально). В целом я считаю, что получила хорошее образование. Наши преподаватели уделяли много внимания хореографии как науке — многие техники вообще скорее математические, чем танцевальные, и это здорово структурирует мышление. А еще каждый семестр у нас была возможность участвовать в постановках именитых педагогов, которые приезжали к нам со всей Америки.
Четыре года мы разучивали хореографию знаменитостей, но после выпуска оказалось: чтобы танцевать работы такого калибра, нужно как минимум лет пять побыть фрилансером: все серьезные коллективы хотят работать с танцорами, у которых большой опыт — и жизненный, и танцевальный.
Адаптация
В первые два месяца после переезда из России меня постоянно спрашивали, все ли у меня нормально, — видимо, по выражению моего лица можно было предположить, что я в депрессии. Я не понимала, почему все ко мне цепляются, — с настроением у меня все было нормально. Потом догадалась: если в России мы стараемся передать эмоции через язык, то английский менее насыщенный в этом плане, и в нем многое показывают мимикой и жестами. Это для меня было одним из первых... не препятствий, а приключений. Еще одна забавная вещь: первый курс института для американцев — это примерно как у нас поездки в лагерь в девятом-десятом классе. Все вдруг отрываются от родителей, получают полную свободу и распоряжаются ею очень по-разному. Для меня было шоком такое раздолбайство, потому что я на тот момент уже все это пережила — мне, наоборот, хотелось учиться.
Вещь, которая мне нравится в Америке: здесь люди не стесняются хвалить. Россияне не очень любят показывать свое довольство чем-либо, не делают комплименты другим и себе. Но я в похвале вижу только хорошее — это поднимает настроение и самооценку. С другой стороны, кажется, русские просто все держат внутри, и если уж что-то озвучивают, то это становится гораздо более ценным, чем дежурная американская похвала.
Воссоединиться с российской диаспорой я особенно не стремлюсь. В Нью-Йорке я несколько раз бывала на Брайтон-Бич — там у меня возникало ощущение, будто я не в Америке, а в России 1990-х, а все происходящее напоминало «Брат-2»: пластиковые стулья, кафешки с зонтиками, цыпленок табака, пирожки на улицах продают. Большая часть людей переехали туда примерно в то время и будто бы застыли в нем. Но это объяснимо. Для одного из своих учебных режиссерских проектов я брала интервью у экспатов, переехавших в Америку из разных стран, и заметила закономерность: когда ты уезжаешь с родного места, то на новом стараешься как можно тщательнее воссоздать то, что у тебя было раньше, сохранить это. В итоге место, из которого ты уехал, меняется, а ты для своего комфорта и спокойствия воссоздаешь какую-то временную капсулу, в которой все старое должно сохраниться в первозданном виде.
Работа в творческой сфере
После окончания института неграждане США могут на год продлить визу и работать в сфере своего образования. Получается, я могу быть танцором, хореографом или преподавателем танцев, но мне нельзя работать официантом, чем, в принципе, тут занимаются большинство вчерашних выпускников вузов. После консерватории я переехала в Нью-Йорк — к хореографу Мари Меаде, у которой сейчас работаю в коллективе Mari Meade Dance Collective. Мы делаем большие постановки, которые включают в себя не только движения, но и текст, и театрализацию. Какое-то время я была дублером, но постепенно попала в основной состав, несмотря на пока еще не большой опыт.
Коллективов, которые бы регулярно платили танцорам зарплату со всеми отчислениями, в Америке единицы. В основном все набирают составы под конкретные постановки и платят какие-то небольшие проектные деньги. Доход от продажи билетов не может покрыть даже зарплату танцоров, не говоря уже об аренде репетиционных студий, костюмах, гонорарах продюсеров и прочем, поэтому постановки делают, как правило, на грантовые или спонсорские средства. Но с точки зрения государственной поддержки танцевальное — как, впрочем, и остальное — искусство в США сейчас не в лучшей ситуации. Это связано с новым президентом — для него эта сфера не в приоритете. Частных спонсоров тоже не очень много.
Ситуацию усугубляет то, что в последнее время все ни с того ни с сего начали заниматься хореографией и режиссурой. Если раньше спонсоры отдавали деньги крупным институциям, то сейчас гранты дробятся на всех режиссеров-одиночек, и в итоге недополучают все. В свободное время я и сама работаю над личными режиссерскими проектами — обычно в них участвуют танцоры, с которыми я познакомилась в консерватории. Но надо понимать, что люди, занятые в этой сфере, работают не ради денег. Просто у нас такая жизненная цель, миссия. Можно сказать, мы так мир спасаем.
Ностальгия и планы на будущее
Я переехала в Нью-Йорк, потому что здесь постоянно что-то происходит, много людей из разных стран, культур, общественных слоев, сфер деятельности. Я пытаюсь вобрать в себя как можно больше информации, которую смогу использовать в своей режиссуре и в жизни. При этом периодически меня посещают мысли о возвращении в Россию, в Казань. Насколько я знаю, в Казани современного танца почти нет, и я чувствую, что я там нужнее, чем здесь, можно даже сказать, ощущаю свою ответственность. В Нью-Йорке куча народу занимаются тем же, чем я, тут очень трудно протиснуться. В плане карьерного опыта это хорошо, потому что тебя постоянно кто-то куда-то подталкивает, даже если сам ты сидишь на месте. Но в плане артистического и личностного развития это тяжело: нет времени остановиться и отрефлексировать, плюс все очень дорого. Думаю, когда я пойму, что впитала все знания и навыки, какие могла, я выстрою какой-то план переезда на родину. Хотя, конечно, сначала надо понять, что там происходит и нужна ли я там вообще.
Алина Бибишева
Урбанист
С 2016 года живет в Нью-Йорке

Переезд по визе жены
Я переехала в США в 2016 году. До этого я много раз бывала в Америке: в 2013-м учила там английский, потом два года подряд ездила к своему молодому человеку, с которым мы впоследствии расписались и переехали в Нью-Йорк. Когда я уезжала, друзья и знакомые говорили, что меня замучает тоска и я буду чувствовать себя эмигрантом, но раньше я часто переезжала (жила в трех городах) и много путешествовала по миру, поэтому ломки не было совсем. Хотя решиться на переезд было сложно.
В такой ситуации всегда понятно, это твое решение или так складывается судьба. Ты уходишь, отдаешь свою квартиру, раздаешь вещи и с одним чемоданом едешь в неизвестность. Еще мне было трудно отказаться от должности градостроителя в крупном архитектурном бюро. Мне казалось, что в США меня никто не ждет, я боялась, что не смогу никуда устроиться и не найду друзей. Но постепенно все нормализовалось.
Виза жены, которую я получила, дает право быть рядом с супругом, но не право работать. После развода я подала документы на визу для одаренных людей (имеется в виду рабочая виза О-1 для лиц с выдающимися способностями в науке, искусстве, образовании, бизнесе или спорте. — Прим. «Инде»). В этом случае США не обязывают знать английский. Ты должен прикрепить рекомендательные письма от влиятельных в своей сфере людей, доказать, что участвовал в международных проектах, побеждал в конкурсах. Получение визы — полностью твоя ответственность: будущий работодатель лишь делает письмо о намерении нанять тебя с указанием потенциальной зарплаты. Затем ты обращаешься к юристу и платишь ему огромные деньги — от 7000 долларов. Это очень муторный процесс и занимает он три-четыре месяца. После получения визы работодатель тебя официально трудоустраивает.
Поиск своего места в Нью-Йорке
В Нью-Йорке я успела пожить в 10 районах, пока не нашла свой дом. Временное жилье тут многие ищут в группе Gipsy Housing в «Фейсбуке». Чтобы снять квартиру или дом, нужно иметь кредитную историю и рекомендации от предыдущих хозяев, оплатить первый месяц аренды, депозит и в большинстве случаев услуги риелтора. Когда ты только переехал, это кажется сложным. Но спустя полгода у меня получилось сделать кредитную историю и найти людей, которые меня порекомендовали.
По моему опыту, найти работу в США — не большая проблема. Некоторые люди уезжают в Америку в поисках себя — как правило, они впадают в ступор, устраиваются на первую попавшуюся работу или продолжают искать фриланс в России. Если ты уверен в своем призвании, работу найти несложно. Среднего уровня профессионал в любой сфере может рассчитывать на работу по специальности в Нью-Йорке и доход от 40−50 тысяч долларов в год (что, впрочем, довольно немного), а интерны получают от 35 тысяч. Если ты в прошлом вице-президент компании с большим опытом, поиски могут затянуться — мои знакомые искали работу на менеджерских позициях до года. Работу в сфере архитектуры найти несложно, имея хорошее портфолио. В целом нужно просто отправлять много резюме, знакомиться с людьми, посещать профессиональные митапы. По моему опыту, из 100 разосланных портфолио можно рассчитывать на пять интервью, и, вероятно, одно из них станет успешным.
В Америке востребованы программисты, маркетологи, инженеры. Тем, кто получил грин-карту, университеты предлагают много бесплатных курсов повышения квалификации, которые, по сути, трансформируют профессиональный опыт под американские стандарты и местные законы. Главное — быть профессионалом, а из какого института ты выпустился — неважно. Например, моя сестра окончила КамПИ — политехнический институт в Набережных Челнах, в котором учились сплошные гопники. Сейчас она работает в одной из крупнейших строительных компаний мира — Skanska в Нью-Йорке. Даже самое качественное российское образование не дает понимания о международном опыте, проектах и общении с иностранцами. Я училась в «Стрелке» и у нас был годовой мультидисциплинарный и интернациональный краш-курс: студенты из разных стран, обучение на английском. Для меня это было, по сути, «курсом переквалификации».
Сейчас я работаю в компании Project for Public Spaces, с которой сотрудничала еще в России: занимаюсь созданием общественных пространств, общаясь и вовлекая в этот процесс местных жителей. Официально я в этом месте чуть меньше года, моя должность называется Project associate. Если говорить о карьерной лестнице внутри фирмы, следующая должность будет Senior project associate, потом Project director, затем Vice president. Карьерное продвижение в американских компаниях происходит по-разному. У нас, например, повышают по заслугам: если твой клиент доволен или ты получил новый проект для компании, тебя быстро повысят. Если не развиваешься и делаешь одно и то же, одну должность можно занимать хоть десять лет. В компании, где работает моя сестра, зарплаты повышают ежегодно, а должности — каждые два года: фирма заинтересована в твоем росте. Если ты не раскрыл потенциал и профессионально не продвинулся, значит, это ошибка компании: она мало в тебя инвестировала. Или же проблема в твоем менеджере. Подход, при котором сотрудника повышают или увольняют раз в два года, называется тут up or out, и мне он нравится. Американские работодатели ценят в сотрудниках обучаемость и подвижность: мир меняется слишком быстро и нужно уметь адаптироваться к новым условиям. Важно показать, что ты разберешься с любой задачей во что бы то ни стало. Еще работодатели обращают внимание на инициативность. Поэтому я запустила в своей компании серию воркшопов Skill Salad Bar: сотрудники компании учат друг друга разным навыкам — от работы в InDesign до ораторского мастерства. Еще, по моим наблюдениям, работодатели ценят сильную точку зрения по поводу миссии, которую ты транслируешь через работу, и мотивацию к профессиональному росту.
Что ждет русских в Америке
В США меня удивило распределение приоритетов между дружбой, семьей и работой. В России семья и друзья — это что-то святое, люди готовы многое для них сделать. Они на первом месте, и только потом — работа. В Америке — семья, потом работа, затем друзья. Если в России один за всех и все за одного, то в Америке — индивидуалистский подход ко всему. Ты сам за себя, и друзья точно не главнее работы. Еще меня шокировало, какие все вокруг позитивные, хотя по меркам США Нью-Йорк славится прямолинейными и даже грубыми людьми. Люди останавливают тебя на улице сказать, что ты им понравилась, и сделать комплимент цвету твоего пальто, бусам, улыбке. Мне кажется, это потрясающее качество — я тоже учусь так делать.
Кто-то сказал: «Русские как кокос, а американцы — персик». Мы твердые снаружи, но мягкие внутри. И если ты пробьешься через скорлупу человека, станешь ему своим. В Америке все дружелюбные и приветливые, но при этом можно всю ночь проговорить с кем-то на вечеринке, а на следующий день тебя не вспомнят. Здесь друзей зарабатывают годами: ты должен учиться с этим человеком в институте или знать его с детства. Стать своим очень сложно.
Сегодня русских в Америке ждет бесконечное количество приколов на тему вмешательства российских хакеров в выборы. Но в целом к русским относятся очень положительно. Мама моего друга знала русскую женщину и, чтобы общаться с ней, решила учить русский язык по аудиокассетам — слушает их каждый день в машине. Иногда она выдает фразы вроде Gde moy bilet? или Gde moya loshad’? Мама друга спрашивала меня, почему в поздравлениях на русском никогда нет слова happy — «С Новым годом» и «С днем рождения» переводятся как with Birthday! New year! Я даже никогда об этом не задумывалась, но нам как нации точно не помешает добавить в жизнь немного happy.
Американцы интересуются огромной страной, о которой они вообще ничего не знают. Мои местные друзья — в основном иностранцы или американцы, которые жили за границей или работают в международных компаниях, — постоянно просят водить их в русские рестораны и смотреть русские фильмы, а иногда мы устраиваем русские вечеринки. В Нью-Йорке живут 900 тысяч русских и полтора миллиона русскоговорящих. Здесь никогда не стоит говорить что-то плохое по-русски за спиной, потому что велик риск, что человек все поймет.
В Нью-Йорке есть татарская диаспора, а в еврейских кошерных магазинах можно найти чак-чак. Конечно, я ностальгирую по Татарстану — скучаю по «Дому чая» и друзьям. Уехав, понимаешь, что мы все в России комплексуем по поводу своей идентичности. Россияне пытаются быть хипстерами: культурно усредниться под что-то бруклинско-берлинское, хотя существует много культур, традиций и обычаев, которыми можно вдохновиться для создания нового русского стиля. В Татарстане считается колхозным все татарское, а когда приезжаешь в Америку, понимаешь: кириллица, татарские орнаменты, русские мультфильмы — это очень круто. Я ношу много татарских брендов и всем рассказываю о Татарстане. Для американцев Россия — это что-то одно, целое, но ведь у нас так много идентичностей. Надеюсь, приеду в этом году в Татарстан, увижу, как все стало круто, и захочу остаться.
Фото предоставлены героями материала